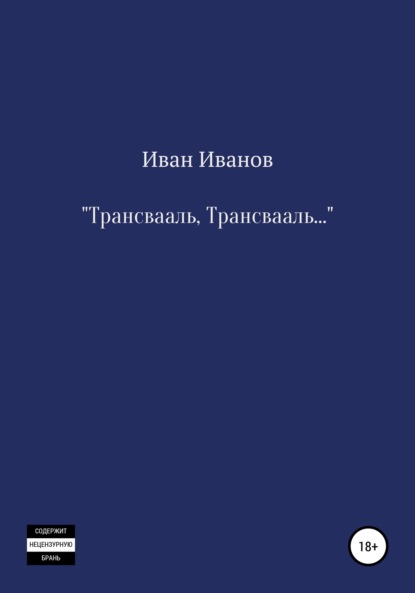По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Град лежит в пепле, и ему нужен лес – нисколько не меньше, чем людям хлеб! И ты, Андрей Петрович, как начальник лесопункта, должен это знать и помнить не хуже меня, парторга! А за людей наших – не боись! Если они выстояли в такую войну, выстоят и теперь, в мирное время.
От такой напористости Леонтьев невольно остановился, глянул вниз на своего ретивого «партийного батюшку», качнул головой и дальше потопал спорыми шагами. Акулин же, поспешая за ним уже впробежку, опять выкатился наперед и с мальчишьей запальчивостью разрядился мобилизующей массы тирадой собственного сочинения:
– Наш народ – Победитель! Народ – Труженик! Который никогда (!) не хнычет, несмотря ни на какие трудности!
А так как он на этот раз в своей горячности запамятовал взмахнуть свернутой в трубку газетой, то и прокричал словно бы в выключенный микрофон.
Как только начальство поравнялось с билом, Грачев, мельтеша культей, показал Леонтьеву, что у него есть к нему неотложный разговор. Тот остановился, склонил голову набок и с готовностью выслушать просителя сбекренил свою волчью шапку с поднятыми ушами.
– Андрей Петрович, мне сегодня, знашь, никак не можно ехать в лес! – простуженным голосом проревел медведем Грач-Отченаш в крапленое порохом иссиня-черное ухо Леонтьева. – Печная труба на потолке, понимашь, гробанулась по самый боров. В начале недели, в оттепель, обченаш, гробанулась!
– Но-о! – с сочувствием пробасил начальник лесопункта. – Что ж раньше-то молчал?
– Да все, обченаш, ждал воскресенья. Думал, когда-то ж должны люди поиметь роздых, – вновь проревел Грачев, как в бездну. – Этак-то без роздыху, извините за выражение, недолго и килу нажить.
– Да, да… Все верно глаголишь, фронтовик, – тяжко вздохнув, согласился Леонтьев. – От такого надсада тут могут окилатить не только люди, но и битюги Камрады. – При этих словах он окатил просителя всепонимающим взглядом. – Гляжу, затюкался ты вконец, вот уже и бриться перестал. А это – худо, друже, худо. Ну, а насчет освобождения – в любой будный день на твое усмотрение.
– Не, товарищ начальник, не!.. Мне, знашь, седни надо! – стоял на своем проситель. – Терпежу, понимашь, не стало от холодрыги.
– Тогда, Грачев, со своей неотложной челобитной кланяйся в ножки парторгу, – пробормотал Леонтьев, потерянно разводя руками. – Сегодня все – люди и лошади – ходим под его путеводной звездой.
И он с каким-то жгучим состраданием к ближнему, как бы обращаясь тоже к глухому, трубно сострил:
– Сам знаешь, какой сегодня день? День – во имя Отца, Сына и Святаго Духа… Тут шутки прочь! Кровь из носу, а и этот день надо поставить две нормы кубиков на попа… Такое вот дело, друже, Серафим ты наш Однокрылый.
В штате сезонного лесопункта Грачев числился дорожным мастером. На самом же деле он пособлял возчикам, девкам да мальчишкам-подросткам наваливать бревна на санные роспуски. И не столько ломил силой, откуда она у него, однорукого, сколько помогал своей мужской сноровкой и смекалкой кондового крестьянина-лесовика. Вот за эту-то охранительную миссию и нарек его меткий на слово начальник лесопункта – Серафимом Однокрылым.
Леонтьев, нахлобучив на лоб шапку, еще раз вздохнул, будто подставил свои крутые плечи под вызвезденное небо с ночным гулякой-месяцем на закорках, и молча потопал к крыльцу конторы: казалось, что под его грузной поступью прогибался промерзший до самого испода шар земной…
Акулин же, не дожидаясь, когда к его горлу подступят с ножом, сам первым вскинулся на докучливого вопрошателя:
– Ты что, Грачев, хочешь сорвать, мне политическую кампанию, да? Да что будет со страной, если каждый станет вот так показывать свои болячки – «печная труба гробанулась»? – передразнил он, словно намереваясь клюнуть просителя в лицо своей скрюченной кистью-протезом в неразношенной черной кожаной перчатке. – Да кому они, твои бздыхи, нужны, особенно в этот день? Ты ж – коммунист!.. Стыдись, фронтовик!
И укатился следом за начальником лесопункта в контору, только льдисто поблестела при лунном свете его диагоналевая гимнастерка, выступавшая юбкой из-под фуфайки поверх ватных штанов.
Ошарашенный отказом в человеческой душевной малости, Грачев аж попятился и теперь стоял под обгорелой березой, мотал головой, словно бык во время заклания, неудачно, не наповал, шарахнутый в межрожье деревянной долбней-чекмарем. Со стороны было похоже – мужик собрался бодаться с билом, сатанея от любимого присловья:
– Знашь-понимашь… Понимашь-знашь… Обченаш, извините за выражение…
– Вот те, бабушка, и Юрьев день! – с сочувствием подала голос вдова Марфа.
От подсказки у бывшего фронтовика, видно, поехала крыша. Он сграбастал с тарелки буфера ржавый шкворень и со всего-то замаха, как сказал бы старик Никанорыч, жахнул раз, да и другой по стылому, гулкому железу…
Вскоре к лесопунктовской конторе стали съезжаться возницы: бабы, девки да мальчишки-отроки. В широкие санные роспуски-канадки были впряжены одинаковые лошади невиданной для здешних мест породы: огромные битюги красно-гнедой масти с ногами, как ступы, и развалистыми крупами – шире печек. Этих чудо-лошалей с короткими овечьими хвостами по осени пригнали самоходом из Восточной Пруссии в разрушенный Вечный Град в счет военного ущерба. Тринадцать живых тракторов, как окрестили их в деревне, по распределению достались и Новинскому сезонному лесопункту. С легкого слова Леонтьева, трофейное поголовье нарекли общей кличкой Камрады: каждая особь с именным номером.
Вместе с возницами на мешках с сеном, привязанных к поворотным колодкам санных роспусков, сидели и лесорубы: все те же девки, бабы и их изможденные отроки. Лесовики ждали выхода начальства, а оно, сидя в тепле, ожидало, когда к конторскому крыльцу припожалует собственной персоной лесопунктовская белая кость, конюх и пилостав в одном лице Яшка-Колча. Хотя он и урожденный новинец, но в деревне объявился недавно. Всю войну пребывал в местах не столь отдаленных, если таковым считать Север, где пилоставил на лесоповале. Там же, при попытке к бегству, был подстрелен в ногу.
А в недалеком довоенном прошлом Яшка значился шишкой местного значения. При сельсовете состоял агентом-заготовителем сельхозпродуктов – по так называемым добровольным соцобязательствам. Эту почетно-выпивошистую по тем временам должность он унаследовал по-родственному от своего приснопамятного всей округе родителя Арси-Беды, бывшего предкомбеда, великого разорителя деревни во время коллективизации. И сын превзошел отца в нахрапистости к корыстолюбию. Бывало, случись кому потерять квитанцию на сданную шкуру (а их по соцобязательству требовалось две с подворья), он готов был содрать ее с хозяина, если в хлеву не найдется больше другой живности. Все опишет в хозяйстве. Но вот злополучная квитанция нашлась-таки. И хозяйка, вся в радостных слезах, сей документ подаст своему вымогателю: «Яков Арсентич, ить сдали шкуру-то!» А с лихоимца, как с гуся вода, лишь захохочет демоном: «Ха-ха-ха, и пошутковать уж не можно!» И дальше от двора ко двору шел «шутковать», авось, где и обломится мзда. В конце концов за все свои плутни прохиндей перед самой войной угодил-таки за колючую проволоку, несмотря на свое «пролетарское» происхождение…
Да вот и он, Колча, – на вспомине легком! – сидел в промахнувших мимо розвальнях, тискал грудастую лесопунктовскую стряпуху Главдю, и та верещала на всю деревню некормленой хавроньей:
– Ой, мамочка, ой, умру счас!
– Злата-муха, врешь – от энта не умрешь! – ржал ухажер, яро приступая к девке.
Как только молодой возница, он же и конторский вестовой, и водовоз на лесосеке, разудалый Ионка Веснин с шиком свернул с дороги чубарого мерина, известного всей округе новинского Счастливца-Дезертира, и поставил свои розвальни в голову лесовозного обоза, его жениховатый седок, тискавший девку, сразу же попал под обстрел:
– Яшка!.. Победитель бабий! – насмешливо кричала речистая на язык, засидевшаяся в девках здоровенная Мотя Баночкина, или просто Баночка. – Чтой-то у наших Камрадов шеи-то день ото дня все тоньше и тоньше?
– Дак ить… все оттого! – выкомариваясь, осклабился Яшка, залихватски сдвигая на затылок обтрепанный треух. – Говорю, все оттого, что, как и наша тетя-Мотя, толстозадые пленники начинают мало-помалу обвыкаться к местным условиям. Видно, хотят успеть к весне отрастить в длину свои короткие шеи, чтоб можно было, по примеру нашего Дезертира, кормиться из-под копыта. А то бывшие-то их хозяева, толстопузые буржуи, изнежили их. Сказывают, и летом кормили своих битюгов сеном из кормушек. Оттого у них шеи-то стали короткими и толстенными… А чтоб летом кормить лошадей сеном из яслей, у нас слуг нету – их давно отменили. И какая животина не достает жратвы из-под копыта, та и не ест, и крышка ей!
– Яшка, до лета еще далече, – сердито заметила вдова Марфа. – К тому времени наши Камрады скорее вытянут ноги, чем успеют отрастить себе шеи.
– Иду-ут! – словно возвещая о крестном ходе, выкрикнул звонко кто-то из мальчишек, кладя конец колготне.
Из распахнутой настежь конторской двери, выпутываясь из белых клубов пара, первым скатился с невысокого крыльца парторг Акулин со свернутым переходящим квартальным знаменем в руках. За ним, минуя ступеньки, шагнул на улицу Леонтьев, запахивая полушубок. Выход начальства замыкал старик Никанорыч, опираясь на вересковый костыль. В свободной руке он нес гармонику, завернутую от лютого мороза в мешковину.
В будни на лесосеке обходились как без знамени, так и без старинной тальянки конторского сторожа-истопника. Сегодня же, как нам известно, был особый день недели. Не просто воскресенье, а еще и Сталинская Вахта! Поэтому в Новинском сезонном лесопункте, как любил кичливо заявить молодой парторг Сава Акулин, были «мобилизованы все тылы»… Если в дни Вахт Вождя Вождей короткохвостым Камрадам для укрепления их могуты наскребали по каким-то неведомым сусекам двойную порцию овса, то для поднятия стойкого духа людей лесопунктовский комиссар Савелий позаботился о гармони. Потому-то и ехали сегодня на лесосеку конторский сторож-истопник в качестве культпросвета, а конюх-пилостав как оружейный мастер. В иные дни Яшка-Колча точил пилы вальщикам за вторую хлебную карточку по ночам, у себя на конюшне при свете фонаря «летучая мышь».
Пока старик Никанорыч неспешно заводил в розвальни, как дышло, свою деревянную ногу. Акулин, успев уложить рядом с собой знамя, по-военному скомандовал:
– По коням, товарищи! Камрады, шаго-ом марш!
Его громкая, бодрящая команда, видно, долетела и до тугого уха Леонтьева, который по-отецки пожурил:
– Савушка, да хватит тебе играть и оловянных солдатиков. – И тут же строго подторопил: – Поехали!
С этими словами начальник лесопункта отворотил вниз высокие уши волчьей шапки, словно захлопнув над головой тяжелую крышку люка танка, в котором испорчена была рация. И всякая слуховая связь с внешним миром на этом для него оборвалась. А рядом с ним мир жил голосами:
– Да поехали с Богом! – не выдержала вдова Марфа и, крестясь, обратилась к небу. – Господи ты наш Правый… Прости ты нас, грешных, за то, што содеем не по своей волюшке непрощенный грех: едем кататься в лес в твой пречистый День.
Дал о себе знать и Серафим Однокрылый. Видно, мужик совсем иззяб, сидя на роспусках.
– Што, обченаш, валандаемся-то? – И тут, от боли за своих дочек, оставленных в нетопленой избе, он дал такую волюшку языку – как только не разверзилась под ним промерзшая мать-земля. – Извините за выражение… поехали – во имя Отца, Сына и Святаго Духа, знашь-понимашь, понимашь-знашь, обченаш!
Вдова Марфа громко посмеялась и, словно по тропарю, прочла слова, значившиеся на бывшей церковной иконе, когда-то сожженной Арсей-Бедой по-воровски ночью, в подгорье у реки:
– Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Иафет власть имеет, а смерть всем владеет. Аминь.
И под священные заповеди рода Ноева лесовозный обоз наконец-таки «кренулся». Перешибая чугунный топот Камрадовых копыт и скрежетанье неразъезженных полозьев, настывших в ночи, неистовый Акулин снова по-командирски подал голос:
– Девоньки, бабоньки, запевай!
Песня тоже входила в обязательный ритуал Вахты Вождя Вождей. Выезжать из деревни, как бы ни было рано, и приезжать из лесу, как бы ни было поздно, по твердому убеждению парторга надо было только с песней. И Мотя-Баночка то ли в шутку, то ли серчая на то, что не дали отоспаться хотя б в воскресенье, затянула страданье:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик!
– Баночкина, а ну без провокаций! – взвился в морозном воздухе голос Акулина. – Зажигательную… мобилизующую – валяй!
От такой напористости Леонтьев невольно остановился, глянул вниз на своего ретивого «партийного батюшку», качнул головой и дальше потопал спорыми шагами. Акулин же, поспешая за ним уже впробежку, опять выкатился наперед и с мальчишьей запальчивостью разрядился мобилизующей массы тирадой собственного сочинения:
– Наш народ – Победитель! Народ – Труженик! Который никогда (!) не хнычет, несмотря ни на какие трудности!
А так как он на этот раз в своей горячности запамятовал взмахнуть свернутой в трубку газетой, то и прокричал словно бы в выключенный микрофон.
Как только начальство поравнялось с билом, Грачев, мельтеша культей, показал Леонтьеву, что у него есть к нему неотложный разговор. Тот остановился, склонил голову набок и с готовностью выслушать просителя сбекренил свою волчью шапку с поднятыми ушами.
– Андрей Петрович, мне сегодня, знашь, никак не можно ехать в лес! – простуженным голосом проревел медведем Грач-Отченаш в крапленое порохом иссиня-черное ухо Леонтьева. – Печная труба на потолке, понимашь, гробанулась по самый боров. В начале недели, в оттепель, обченаш, гробанулась!
– Но-о! – с сочувствием пробасил начальник лесопункта. – Что ж раньше-то молчал?
– Да все, обченаш, ждал воскресенья. Думал, когда-то ж должны люди поиметь роздых, – вновь проревел Грачев, как в бездну. – Этак-то без роздыху, извините за выражение, недолго и килу нажить.
– Да, да… Все верно глаголишь, фронтовик, – тяжко вздохнув, согласился Леонтьев. – От такого надсада тут могут окилатить не только люди, но и битюги Камрады. – При этих словах он окатил просителя всепонимающим взглядом. – Гляжу, затюкался ты вконец, вот уже и бриться перестал. А это – худо, друже, худо. Ну, а насчет освобождения – в любой будный день на твое усмотрение.
– Не, товарищ начальник, не!.. Мне, знашь, седни надо! – стоял на своем проситель. – Терпежу, понимашь, не стало от холодрыги.
– Тогда, Грачев, со своей неотложной челобитной кланяйся в ножки парторгу, – пробормотал Леонтьев, потерянно разводя руками. – Сегодня все – люди и лошади – ходим под его путеводной звездой.
И он с каким-то жгучим состраданием к ближнему, как бы обращаясь тоже к глухому, трубно сострил:
– Сам знаешь, какой сегодня день? День – во имя Отца, Сына и Святаго Духа… Тут шутки прочь! Кровь из носу, а и этот день надо поставить две нормы кубиков на попа… Такое вот дело, друже, Серафим ты наш Однокрылый.
В штате сезонного лесопункта Грачев числился дорожным мастером. На самом же деле он пособлял возчикам, девкам да мальчишкам-подросткам наваливать бревна на санные роспуски. И не столько ломил силой, откуда она у него, однорукого, сколько помогал своей мужской сноровкой и смекалкой кондового крестьянина-лесовика. Вот за эту-то охранительную миссию и нарек его меткий на слово начальник лесопункта – Серафимом Однокрылым.
Леонтьев, нахлобучив на лоб шапку, еще раз вздохнул, будто подставил свои крутые плечи под вызвезденное небо с ночным гулякой-месяцем на закорках, и молча потопал к крыльцу конторы: казалось, что под его грузной поступью прогибался промерзший до самого испода шар земной…
Акулин же, не дожидаясь, когда к его горлу подступят с ножом, сам первым вскинулся на докучливого вопрошателя:
– Ты что, Грачев, хочешь сорвать, мне политическую кампанию, да? Да что будет со страной, если каждый станет вот так показывать свои болячки – «печная труба гробанулась»? – передразнил он, словно намереваясь клюнуть просителя в лицо своей скрюченной кистью-протезом в неразношенной черной кожаной перчатке. – Да кому они, твои бздыхи, нужны, особенно в этот день? Ты ж – коммунист!.. Стыдись, фронтовик!
И укатился следом за начальником лесопункта в контору, только льдисто поблестела при лунном свете его диагоналевая гимнастерка, выступавшая юбкой из-под фуфайки поверх ватных штанов.
Ошарашенный отказом в человеческой душевной малости, Грачев аж попятился и теперь стоял под обгорелой березой, мотал головой, словно бык во время заклания, неудачно, не наповал, шарахнутый в межрожье деревянной долбней-чекмарем. Со стороны было похоже – мужик собрался бодаться с билом, сатанея от любимого присловья:
– Знашь-понимашь… Понимашь-знашь… Обченаш, извините за выражение…
– Вот те, бабушка, и Юрьев день! – с сочувствием подала голос вдова Марфа.
От подсказки у бывшего фронтовика, видно, поехала крыша. Он сграбастал с тарелки буфера ржавый шкворень и со всего-то замаха, как сказал бы старик Никанорыч, жахнул раз, да и другой по стылому, гулкому железу…
Вскоре к лесопунктовской конторе стали съезжаться возницы: бабы, девки да мальчишки-отроки. В широкие санные роспуски-канадки были впряжены одинаковые лошади невиданной для здешних мест породы: огромные битюги красно-гнедой масти с ногами, как ступы, и развалистыми крупами – шире печек. Этих чудо-лошалей с короткими овечьими хвостами по осени пригнали самоходом из Восточной Пруссии в разрушенный Вечный Град в счет военного ущерба. Тринадцать живых тракторов, как окрестили их в деревне, по распределению достались и Новинскому сезонному лесопункту. С легкого слова Леонтьева, трофейное поголовье нарекли общей кличкой Камрады: каждая особь с именным номером.
Вместе с возницами на мешках с сеном, привязанных к поворотным колодкам санных роспусков, сидели и лесорубы: все те же девки, бабы и их изможденные отроки. Лесовики ждали выхода начальства, а оно, сидя в тепле, ожидало, когда к конторскому крыльцу припожалует собственной персоной лесопунктовская белая кость, конюх и пилостав в одном лице Яшка-Колча. Хотя он и урожденный новинец, но в деревне объявился недавно. Всю войну пребывал в местах не столь отдаленных, если таковым считать Север, где пилоставил на лесоповале. Там же, при попытке к бегству, был подстрелен в ногу.
А в недалеком довоенном прошлом Яшка значился шишкой местного значения. При сельсовете состоял агентом-заготовителем сельхозпродуктов – по так называемым добровольным соцобязательствам. Эту почетно-выпивошистую по тем временам должность он унаследовал по-родственному от своего приснопамятного всей округе родителя Арси-Беды, бывшего предкомбеда, великого разорителя деревни во время коллективизации. И сын превзошел отца в нахрапистости к корыстолюбию. Бывало, случись кому потерять квитанцию на сданную шкуру (а их по соцобязательству требовалось две с подворья), он готов был содрать ее с хозяина, если в хлеву не найдется больше другой живности. Все опишет в хозяйстве. Но вот злополучная квитанция нашлась-таки. И хозяйка, вся в радостных слезах, сей документ подаст своему вымогателю: «Яков Арсентич, ить сдали шкуру-то!» А с лихоимца, как с гуся вода, лишь захохочет демоном: «Ха-ха-ха, и пошутковать уж не можно!» И дальше от двора ко двору шел «шутковать», авось, где и обломится мзда. В конце концов за все свои плутни прохиндей перед самой войной угодил-таки за колючую проволоку, несмотря на свое «пролетарское» происхождение…
Да вот и он, Колча, – на вспомине легком! – сидел в промахнувших мимо розвальнях, тискал грудастую лесопунктовскую стряпуху Главдю, и та верещала на всю деревню некормленой хавроньей:
– Ой, мамочка, ой, умру счас!
– Злата-муха, врешь – от энта не умрешь! – ржал ухажер, яро приступая к девке.
Как только молодой возница, он же и конторский вестовой, и водовоз на лесосеке, разудалый Ионка Веснин с шиком свернул с дороги чубарого мерина, известного всей округе новинского Счастливца-Дезертира, и поставил свои розвальни в голову лесовозного обоза, его жениховатый седок, тискавший девку, сразу же попал под обстрел:
– Яшка!.. Победитель бабий! – насмешливо кричала речистая на язык, засидевшаяся в девках здоровенная Мотя Баночкина, или просто Баночка. – Чтой-то у наших Камрадов шеи-то день ото дня все тоньше и тоньше?
– Дак ить… все оттого! – выкомариваясь, осклабился Яшка, залихватски сдвигая на затылок обтрепанный треух. – Говорю, все оттого, что, как и наша тетя-Мотя, толстозадые пленники начинают мало-помалу обвыкаться к местным условиям. Видно, хотят успеть к весне отрастить в длину свои короткие шеи, чтоб можно было, по примеру нашего Дезертира, кормиться из-под копыта. А то бывшие-то их хозяева, толстопузые буржуи, изнежили их. Сказывают, и летом кормили своих битюгов сеном из кормушек. Оттого у них шеи-то стали короткими и толстенными… А чтоб летом кормить лошадей сеном из яслей, у нас слуг нету – их давно отменили. И какая животина не достает жратвы из-под копыта, та и не ест, и крышка ей!
– Яшка, до лета еще далече, – сердито заметила вдова Марфа. – К тому времени наши Камрады скорее вытянут ноги, чем успеют отрастить себе шеи.
– Иду-ут! – словно возвещая о крестном ходе, выкрикнул звонко кто-то из мальчишек, кладя конец колготне.
Из распахнутой настежь конторской двери, выпутываясь из белых клубов пара, первым скатился с невысокого крыльца парторг Акулин со свернутым переходящим квартальным знаменем в руках. За ним, минуя ступеньки, шагнул на улицу Леонтьев, запахивая полушубок. Выход начальства замыкал старик Никанорыч, опираясь на вересковый костыль. В свободной руке он нес гармонику, завернутую от лютого мороза в мешковину.
В будни на лесосеке обходились как без знамени, так и без старинной тальянки конторского сторожа-истопника. Сегодня же, как нам известно, был особый день недели. Не просто воскресенье, а еще и Сталинская Вахта! Поэтому в Новинском сезонном лесопункте, как любил кичливо заявить молодой парторг Сава Акулин, были «мобилизованы все тылы»… Если в дни Вахт Вождя Вождей короткохвостым Камрадам для укрепления их могуты наскребали по каким-то неведомым сусекам двойную порцию овса, то для поднятия стойкого духа людей лесопунктовский комиссар Савелий позаботился о гармони. Потому-то и ехали сегодня на лесосеку конторский сторож-истопник в качестве культпросвета, а конюх-пилостав как оружейный мастер. В иные дни Яшка-Колча точил пилы вальщикам за вторую хлебную карточку по ночам, у себя на конюшне при свете фонаря «летучая мышь».
Пока старик Никанорыч неспешно заводил в розвальни, как дышло, свою деревянную ногу. Акулин, успев уложить рядом с собой знамя, по-военному скомандовал:
– По коням, товарищи! Камрады, шаго-ом марш!
Его громкая, бодрящая команда, видно, долетела и до тугого уха Леонтьева, который по-отецки пожурил:
– Савушка, да хватит тебе играть и оловянных солдатиков. – И тут же строго подторопил: – Поехали!
С этими словами начальник лесопункта отворотил вниз высокие уши волчьей шапки, словно захлопнув над головой тяжелую крышку люка танка, в котором испорчена была рация. И всякая слуховая связь с внешним миром на этом для него оборвалась. А рядом с ним мир жил голосами:
– Да поехали с Богом! – не выдержала вдова Марфа и, крестясь, обратилась к небу. – Господи ты наш Правый… Прости ты нас, грешных, за то, што содеем не по своей волюшке непрощенный грех: едем кататься в лес в твой пречистый День.
Дал о себе знать и Серафим Однокрылый. Видно, мужик совсем иззяб, сидя на роспусках.
– Што, обченаш, валандаемся-то? – И тут, от боли за своих дочек, оставленных в нетопленой избе, он дал такую волюшку языку – как только не разверзилась под ним промерзшая мать-земля. – Извините за выражение… поехали – во имя Отца, Сына и Святаго Духа, знашь-понимашь, понимашь-знашь, обченаш!
Вдова Марфа громко посмеялась и, словно по тропарю, прочла слова, значившиеся на бывшей церковной иконе, когда-то сожженной Арсей-Бедой по-воровски ночью, в подгорье у реки:
– Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Иафет власть имеет, а смерть всем владеет. Аминь.
И под священные заповеди рода Ноева лесовозный обоз наконец-таки «кренулся». Перешибая чугунный топот Камрадовых копыт и скрежетанье неразъезженных полозьев, настывших в ночи, неистовый Акулин снова по-командирски подал голос:
– Девоньки, бабоньки, запевай!
Песня тоже входила в обязательный ритуал Вахты Вождя Вождей. Выезжать из деревни, как бы ни было рано, и приезжать из лесу, как бы ни было поздно, по твердому убеждению парторга надо было только с песней. И Мотя-Баночка то ли в шутку, то ли серчая на то, что не дали отоспаться хотя б в воскресенье, затянула страданье:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик!
– Баночкина, а ну без провокаций! – взвился в морозном воздухе голос Акулина. – Зажигательную… мобилизующую – валяй!