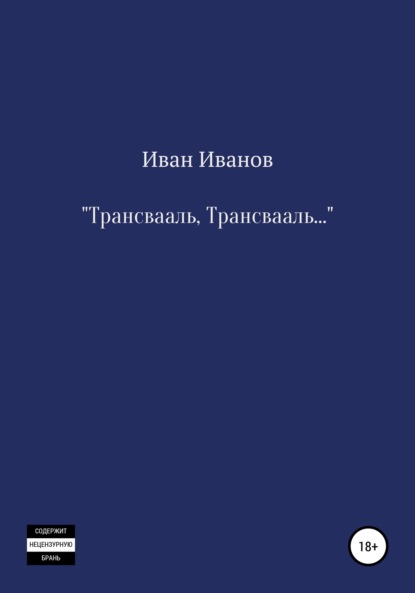По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот видишь, видишь! – заволновалась Паша. – Твоя бабушка Груша как-то поведала побывальщину из молодости своей бабки Аксинии. Невеста одного парня пошла на болото по ягоду-веснянку, да так и не вернулась домой. Несколько дней искали ее в лесу всей деревней. Да так и порешили: девка не иначе, как канула где-то в гибельной мочажине… А осенью бабы снова пришли на болото за новой журавлиной, глядят и глазам своим не верят. Сгинувшая-то девка – вся как есть голышом и с волосьями до пят – хороводы водит с журавлями. Оказывается, весной ее спятили с ума, как ты счас гришь, «журавлиные плясы». Поэтому-то охотник Захар-покойник не зря говаривал людям: «В вешнем лесу, во время тайнобрачия божьих тварей, человеку нечего делать». А журавли – они такие! Они всегда заманывают к себе людей… Вот и я счас улетела б с ними, куда глаза глядят, только дай мне крылья.
– Ага – восторженно подхватил Ионка. – Крестная, я тоже так подумал, когда смотрел их плясы: «Вот бы мне ихние крылья!.. Перелетел бы бесшумно передовую, высмотрел, где вражий штаб, и давай из-под крыла бахать гранатами!»
– Ой, ой… Ионушка, что ты говоришь-то? – задохнулась от немочи Паша. Но вот, черпанув в себе откуда-то сил, она продолжала шептать: – А теперь запомни, что скажу тебе. Если суждено будет придти с войны твоему крестному, дядьке Даниле, передай ему: «А крестная-то моя у тебя была – глупой курицей». Он все поймет… Бабка-то твоя не посмотрит, что Данька наш доводится ей сыном, – сокрытничает. Не даром же ее зовут в деревне Кондой. А ты расскажи без утайки, все как было. Тебе он поверит – ты его крестник. Может быть, когда-то и простит меня на моей могиле…
Мальчишка, не помня себя, выбежал из землянки и по набитой тропке скатился к ручью, чуть не сбив с ног бабку Грушу, поднимавшуюся с постирухами на палке к себе на пепелище.
– Куда это еща поярил, санапал волыглазый? – крикнула она вдогон внуку и заторопилась в землянку, причитая: – Все ли ладно-то с моей греховодницей безгрешной?
А санапал волыглазый уже бесстрашно бежал по широкой дедовой лаве над буйно ярившимся в белой пене жерлом ручья. Потом, оскальзываясь и царапая до крови руки о ноздреватый синий заструг снега, все еще лежащий в затенке буерака, он покарабкался на крутик верхнего огорода. А одолев его, тут же юркнул в складки по-весеннему нарядного, живого сарафана плакучей вербы Старая Вера, хранительницы его мальчишеских тайн.
И вот, оказавшись в уединении, Ионка упал на колени и стал с усердием бухаться лбом об выпиравший из талой земли корявый корень вербы, искренно веря бабке, что «Бог-то – все видит, все слышит и все про всех знает». Вот и пускай Он, Бог, – все видит, все слышит и все знает, как Ионка Веснин бухается тут лбом об корень, вымаливая себе просьбу.
Только догадывался ли мальчишка, что просьба-то его – даже для всесильного Бога была нешуточной. Ведь надо было почти что из мертвых воскресить его любимую крестную.
О, как сожалел Ионка Веснин, что не знает ни одной молитвы. А ведь бывало, сколько билась с ним бабка Груша в мирное время, в Великий пост. И леденцов-то покупала, и сказки-то, да самые страшные, рассказывала ему, чтобы он только вызубрил до конца хотя б одну немудрящую молитву. Вот сказки-то и запомнил.
Но своим мальчишьм умом он, видно, понимал, что тут сказкой делу не поможешь. Сейчас нужна была молитва… Потому-то он – в который уже раз! – сглатывал одни и те же слова:
– Богородица-Дева, радуйся… Благодатная Мария, Господь с тобою… – Вот и вся была молитва у новинского мальчишки.
Ну и что из того, что она была у него коротка? Зато она была – чиста и светла! Ее просто нельзя было не услышать…
Глава 10
Кубики на попа (Лесная Голгофа)
«Великий Государь указалъ Стольника Князя Григория Княжъ Венедиктова сына Оболенского послать въ тюрьму, за то что у него июня въ 6 числе, въ Воскресенье недели Всехъ Святыъ, на дворе его люди и крестьяне работали черную работу, да онъ же Князь Григорий говорилъ скверныя слова».
(Именной Указ царя Алексея Михайловича отъ 7 июня 1669 года «О посажении в тюрьму Князя Оболенского»…)
К растрепанной крыше старой риги, что стояла за деревней на пологом угоре, крался, прячаясь за кисейные высокие облака, молодой рогатый месяц. Время было как раз бы возвестить новую зарю: на чьем-то подворье – для зачина – гаркнуть на насесте матерому певуну. Но откуда было взяться такому диву в бывшей прифронтовой деревне, у околицы которой почти три года шла не на жизнь, а на смерть окопная война, если все, что можно было съесть, все давно съедено.
И вдруг мертвенно-ломкую стылость раннего утра разорвал до оторопи железный сполох: «БУМ-БУМ-БУМ!» Пожар, что ли? И опять чудно: что могло возгореться в деревне, которая курилась жидкими дымами прямо из земли?!
Первой на железный зов пришла к неказистой лесопунктовской конторе, срубленной наспех перед самыми холодами, вдова Марфа, в прожженной искрами фуфайке.
– Хошь по воскресеньям-то хватило б пужать крещеных ни свет, ни заря… Некрести окаянные, – напустилась она на конторского сторожа-истопника, старого одноногого инвалида еще первой русско-японской войны.
– Мое дело, Марфа, десятое… Велено жахать железякой по билу – и жахаю! За это и хлебную карточку получаю, – огрызнулся старик, кладя ржавый тележный шкворень на тарелку вагонного буфера, подвешенного к обгорелому суку березы перевернутым грибом. – К тому ж и ранняя побудка – особливая! Седни ж… Сталинская Вахта, тут понимать надоть, баба! Забыла, што ль?
– Прям забыла! – поперечила женщина и тут же, отходчиво вздохнув, всхлипнула. – Все понимаю, Никанорыч, да только уже и силов-то никаких нету понимать понятное… Вота и на младшего сына дождалась похоронки. Все тешила себя надежой: раз пропал без вести – объявится опосля войны… Выходит, не судьба мне пестовать внуков.
Старик же горько посетовал:
– Просто не знаю… не знаю, чем только ты, Державный наш Гвоздь, и прогневала небо? – и не найдя, что добавить к сказанному, он крутанулся на своей деревяге, оголенной по самый пах, словно флюгер на оси, и поковылял к низкому конторскому крыльцу, будто хлестким кнутом вспарывая чуткую тишину: «Вжик! Вжик!» – пронзительно взвизгивал под тычком его деревяги настывший снег.
Вдова же, у которой война отняла мужа и трех сыновей, осталась стоять у била, разводя руками: видно, разговаривала про себя с сынами. И больше всех она жалела младшего Лешку за его мальчишью неразумность. Подумать только, санапал – следом за мстинскими добровольцами, немногим старше его – убежал на фронт с дедовым шомпольным «ружом-гусевкой», да так и сгинул где-то в высокой резучей осоке Ильменской пожни у Синего Моста…
Уходил в Лету тяжкий и героический тысяча девятьсот сорок пятый год. Наконец-то на всей круглой земле молчали пушки. Но в разоренных дотла Новинах все еще не чувствовалось мира. Люди оставались зимовать все в тех же бывших прифронтовых сырых землянках, жили люто голодно. И работали, как в войну, с темна до темна и – «за так». А то, что на деревню сыпались похоронки пуще прежнего, так это все проклятущая война подбивала свои горькие «бабки».
На пороге стоял первый мирный Новый год, но в деревне опять же, как и в войну, по-прежнему вся надежда была на вдову Марфу-Державный Гвоздь. Выдюжит баба годок-другой за мужика и за лошадь, выстоит и обескровленная держава. Люди малость отъедятся, приоденутся, переведут дух, а там глядь-поглядь, и дым уже валит столбом над Новинами из новых труб. Но до этого надо еще дожить.
Вторым подошел к конторе один из девяти новинских фронтовиков-обрубышей, однорукий Сим Грачев.
– Начальство, обченаш, на месте? – сухо спросил он у вдовы вместо приветствия. Вид у него был усталый и озабоченный.
– Палыч, Еща не заходила в контору, – уважительно ответила Марфа и украдкой от подошедшего отерла ладонью слезы на глазах, подумав: «Ему, Серафиму Однокрылому, тоже доля досталась не слаще. Женка Катерина до того доотрывала от себя, стараясь уберечь четверых дочек, что и сама сошла на тот свет… Так и не дождалась баба ни Победы, ни мужа-героя при медалях». – И участливо спросила: – Што так напыженный-то с утра пораньше?
– Да знашь, в недавнюю оттепель печная труба на потолке разъехалась по самый боров. Клал-то по морозу, вота она и сказала свое ласковое слово мастеру: ловко Ванька печку склал – и дым не идет! – сознался в своей незадаче Сим Палыч, швыряя в сердцах окурок, который замерцал на снегу ивановским светляком. – А сегодня вона, какая жахнула стужа!
– Вот те раз, а я-то думаю: што это дым из Серафимовой трубы не валит? – сокрушенно качала головой вдова, удрученная несчастьем Грачева. – Дочек-то хоть привел бы ко мне в землянку, а то не ровен час – выморозишь их, как тараканов.
– Да все, понимашь, ждал воскресенья, штоб исправить свою промашку, – тяжко вздохнул Грачев. – Ан, нет, опять слышу звонят колокола – созывают православных к лесной заутрене. Опять, обченаш, извините за выражение, – Грач-Отчепаш, прежде чем ругнуться, обычно извинялся, – Сталинская Вахта, будь она неладна, мать твою тах!
Грачев вернулся из госпиталя перед самыми Октябрьскими праздниками. Верховский его тесть, жалея своих пригожих внучек, отдал им свою летнюю избу, стоявшую в пристрое с зимней под разными крышами. Наскоро разобрали бревна, потом скатали их в реку и по последней воде сплавили в Новины… Дом однорукому вдовому фронтовику поднимали на мох всем миром. На толоке люди от души радовались, что положили зачин деревне. И втайне от счастливого хозяина, чтобы не вводить его в наклад, новинские вдовы сговорились справить на мирный Новый год первое послевоенное новоселье в погорельской деревне… И вот теперь, не ко времени, открылась незадача намечаемому, выстраданному за длинные годы войны празднику: у новосела, не раньше, не после, случилась беда с печной трубой на потолке.
– Худо дело-то, – обеспокоилась Марфа.
– Да уж хуже, обченаш, не могет быть, – согласился Сим Палыч и с надеждой в голосе сказал: – Щас буду отпрашиваться у начальства на день освобождения.
– К тому ж, седня воскресенье, когда и работать-то, оно хошь и не по своей волюшке, все едино – великий грех, – поддержала его вдова. – Да и не война уже, штоб так-от надсажаться-то. Утром просыпаюсь по побудке била и плачу от мысли: опять, Марфа, ты живая. Опять для тебя уготована кромешная лесная Голгофа. – И тут же подбодрила вдовца. – Ну, а ты, Палыч, отпрашивайся на освобождение. Негоже, штоб при живом отце, в мирное время, мерзли ребятишки. А чего не доделаешь за день, вечером, как возвернемся из лесу, придем на вспоможение.
И она истово обнесла его крестным знаменьем:
– Христос тебе в заступу!
Со стороны угора, где стояла старая рига, приспособленная под лесопунктовскую конюшню, послышались громкие голоса:
– Боюсь за лошадей, парторг! – трубно гудел в колючем морозном воздухе басистый голос начальника сезонного лесопункта Леонтьева, бывшего комбата, сапера-штрафника, оглохшего от контузии. – За наших Камрадов боюсь… Они только с виду таскать – живые тракторы, а той закалки на недокорм и небрежение к ним, как у нашего колхозного сивки-бурки Дезертира, у них нету.
– Не боись, начальник! – звонко и ободряюще заверил Акулин, «освобожденный» парторг лесопункта. – Сам знаешь, в дни Сталинских Вахт нашим Камрадам засыпается двойная порция овса.
– А ты, парторг, уверен, что конюх Яшка не хрумкает их овес? – возразил Леонтьев. – На что только пьет рыжий паразит?.. Спи и помни, комиссар: опустим в теле Камрадов – сразу заказывай гроб делу, ради которого, с зари до зари, рвем жилы – люди и лошади. И все наши кубики, поставленные на попа на людской кровушке, останутся гнить в лесу.
Начальству посочувствовала вдова Марфа:
– Когда только спят мужики? В конторе, где живут, ночью и свет, вроде бы, не гаснет… Вота, рань несусветная, а они уже с утренней поверкой успели побывать на конюшне.
– На то они, обченаш, и командиры, штоб в неурочную пору поверять свои позиции, – возгордился за фронтовое братство Грач-Отченаш.
Из-за поворота, скрытого бузиновыми зарослями, объявились медвежатый Леонтьев в распахнутом нагольном полушубке и маленького ростику Акулин в новой ватно-стеганой паре. А большие, еще не растоптанные армейские валенки делали его похожим на колобок, который как бы катился рядом с шагающей горой – Леонтьевым. И вот, чтобы привлечь к себе внимание глухого собеседника, да еще и на ходу, колобок Акулин, прежде чем сказать что-то, забегал вперед, взмахивая, как дирижерской палочкой, свернутой в трубку газетой, и тогда гора-Леонтьев, не сбавляя шага, клонил к нему голову.
– Говорю, за лошадей, Андрей Петрович, не боись, – успокаивал парторг начальника лесопункта. А так как он был из городских, к тому же еще и зеленый – едва перевалило за двадцать, – то и речь свою для солидности старался умащивать местным говорком. – С Камрадами, говорю, все будет путем!.. Ну, а людей я беру на себя. В обед к пшенной каше с постным маслом – лекцию толкну о международном положении.
– Куда б лучше, парторг, если бы мы с тобой в дни Вахт Вождя Вождей расстарались для людей по буханке хлеба сверх пайки, – помечтал Леонтьев. – Пусть бы тот же Серафим Однокрылый сегодня вечером на Новый год принес из лесу для своих Грачат морозный гостинец «от зайчиков»… Ну, а с этими вахтами, как бы они ни назывались, нам надо кончать. Хватит того, что всю войну упирались…
Свежеиспеченный политрук на излете войны рвался на передовую, уже на «чужой земле», боясь, что разразившаяся мировая заваруха закончится без него, волховского каширца Савелия Акулина. Товарняк, на котором он мчался навстречу своей планиде, не доезжая фронта, попал под бомбежку… Так и отвоевался мальчишка-лейтенант без медали, но пыл его к великим подвигам от этого не остыл. И на малодушие начальника Акулин сделал ему внушение:
– Ага – восторженно подхватил Ионка. – Крестная, я тоже так подумал, когда смотрел их плясы: «Вот бы мне ихние крылья!.. Перелетел бы бесшумно передовую, высмотрел, где вражий штаб, и давай из-под крыла бахать гранатами!»
– Ой, ой… Ионушка, что ты говоришь-то? – задохнулась от немочи Паша. Но вот, черпанув в себе откуда-то сил, она продолжала шептать: – А теперь запомни, что скажу тебе. Если суждено будет придти с войны твоему крестному, дядьке Даниле, передай ему: «А крестная-то моя у тебя была – глупой курицей». Он все поймет… Бабка-то твоя не посмотрит, что Данька наш доводится ей сыном, – сокрытничает. Не даром же ее зовут в деревне Кондой. А ты расскажи без утайки, все как было. Тебе он поверит – ты его крестник. Может быть, когда-то и простит меня на моей могиле…
Мальчишка, не помня себя, выбежал из землянки и по набитой тропке скатился к ручью, чуть не сбив с ног бабку Грушу, поднимавшуюся с постирухами на палке к себе на пепелище.
– Куда это еща поярил, санапал волыглазый? – крикнула она вдогон внуку и заторопилась в землянку, причитая: – Все ли ладно-то с моей греховодницей безгрешной?
А санапал волыглазый уже бесстрашно бежал по широкой дедовой лаве над буйно ярившимся в белой пене жерлом ручья. Потом, оскальзываясь и царапая до крови руки о ноздреватый синий заструг снега, все еще лежащий в затенке буерака, он покарабкался на крутик верхнего огорода. А одолев его, тут же юркнул в складки по-весеннему нарядного, живого сарафана плакучей вербы Старая Вера, хранительницы его мальчишеских тайн.
И вот, оказавшись в уединении, Ионка упал на колени и стал с усердием бухаться лбом об выпиравший из талой земли корявый корень вербы, искренно веря бабке, что «Бог-то – все видит, все слышит и все про всех знает». Вот и пускай Он, Бог, – все видит, все слышит и все знает, как Ионка Веснин бухается тут лбом об корень, вымаливая себе просьбу.
Только догадывался ли мальчишка, что просьба-то его – даже для всесильного Бога была нешуточной. Ведь надо было почти что из мертвых воскресить его любимую крестную.
О, как сожалел Ионка Веснин, что не знает ни одной молитвы. А ведь бывало, сколько билась с ним бабка Груша в мирное время, в Великий пост. И леденцов-то покупала, и сказки-то, да самые страшные, рассказывала ему, чтобы он только вызубрил до конца хотя б одну немудрящую молитву. Вот сказки-то и запомнил.
Но своим мальчишьм умом он, видно, понимал, что тут сказкой делу не поможешь. Сейчас нужна была молитва… Потому-то он – в который уже раз! – сглатывал одни и те же слова:
– Богородица-Дева, радуйся… Благодатная Мария, Господь с тобою… – Вот и вся была молитва у новинского мальчишки.
Ну и что из того, что она была у него коротка? Зато она была – чиста и светла! Ее просто нельзя было не услышать…
Глава 10
Кубики на попа (Лесная Голгофа)
«Великий Государь указалъ Стольника Князя Григория Княжъ Венедиктова сына Оболенского послать въ тюрьму, за то что у него июня въ 6 числе, въ Воскресенье недели Всехъ Святыъ, на дворе его люди и крестьяне работали черную работу, да онъ же Князь Григорий говорилъ скверныя слова».
(Именной Указ царя Алексея Михайловича отъ 7 июня 1669 года «О посажении в тюрьму Князя Оболенского»…)
К растрепанной крыше старой риги, что стояла за деревней на пологом угоре, крался, прячаясь за кисейные высокие облака, молодой рогатый месяц. Время было как раз бы возвестить новую зарю: на чьем-то подворье – для зачина – гаркнуть на насесте матерому певуну. Но откуда было взяться такому диву в бывшей прифронтовой деревне, у околицы которой почти три года шла не на жизнь, а на смерть окопная война, если все, что можно было съесть, все давно съедено.
И вдруг мертвенно-ломкую стылость раннего утра разорвал до оторопи железный сполох: «БУМ-БУМ-БУМ!» Пожар, что ли? И опять чудно: что могло возгореться в деревне, которая курилась жидкими дымами прямо из земли?!
Первой на железный зов пришла к неказистой лесопунктовской конторе, срубленной наспех перед самыми холодами, вдова Марфа, в прожженной искрами фуфайке.
– Хошь по воскресеньям-то хватило б пужать крещеных ни свет, ни заря… Некрести окаянные, – напустилась она на конторского сторожа-истопника, старого одноногого инвалида еще первой русско-японской войны.
– Мое дело, Марфа, десятое… Велено жахать железякой по билу – и жахаю! За это и хлебную карточку получаю, – огрызнулся старик, кладя ржавый тележный шкворень на тарелку вагонного буфера, подвешенного к обгорелому суку березы перевернутым грибом. – К тому ж и ранняя побудка – особливая! Седни ж… Сталинская Вахта, тут понимать надоть, баба! Забыла, што ль?
– Прям забыла! – поперечила женщина и тут же, отходчиво вздохнув, всхлипнула. – Все понимаю, Никанорыч, да только уже и силов-то никаких нету понимать понятное… Вота и на младшего сына дождалась похоронки. Все тешила себя надежой: раз пропал без вести – объявится опосля войны… Выходит, не судьба мне пестовать внуков.
Старик же горько посетовал:
– Просто не знаю… не знаю, чем только ты, Державный наш Гвоздь, и прогневала небо? – и не найдя, что добавить к сказанному, он крутанулся на своей деревяге, оголенной по самый пах, словно флюгер на оси, и поковылял к низкому конторскому крыльцу, будто хлестким кнутом вспарывая чуткую тишину: «Вжик! Вжик!» – пронзительно взвизгивал под тычком его деревяги настывший снег.
Вдова же, у которой война отняла мужа и трех сыновей, осталась стоять у била, разводя руками: видно, разговаривала про себя с сынами. И больше всех она жалела младшего Лешку за его мальчишью неразумность. Подумать только, санапал – следом за мстинскими добровольцами, немногим старше его – убежал на фронт с дедовым шомпольным «ружом-гусевкой», да так и сгинул где-то в высокой резучей осоке Ильменской пожни у Синего Моста…
Уходил в Лету тяжкий и героический тысяча девятьсот сорок пятый год. Наконец-то на всей круглой земле молчали пушки. Но в разоренных дотла Новинах все еще не чувствовалось мира. Люди оставались зимовать все в тех же бывших прифронтовых сырых землянках, жили люто голодно. И работали, как в войну, с темна до темна и – «за так». А то, что на деревню сыпались похоронки пуще прежнего, так это все проклятущая война подбивала свои горькие «бабки».
На пороге стоял первый мирный Новый год, но в деревне опять же, как и в войну, по-прежнему вся надежда была на вдову Марфу-Державный Гвоздь. Выдюжит баба годок-другой за мужика и за лошадь, выстоит и обескровленная держава. Люди малость отъедятся, приоденутся, переведут дух, а там глядь-поглядь, и дым уже валит столбом над Новинами из новых труб. Но до этого надо еще дожить.
Вторым подошел к конторе один из девяти новинских фронтовиков-обрубышей, однорукий Сим Грачев.
– Начальство, обченаш, на месте? – сухо спросил он у вдовы вместо приветствия. Вид у него был усталый и озабоченный.
– Палыч, Еща не заходила в контору, – уважительно ответила Марфа и украдкой от подошедшего отерла ладонью слезы на глазах, подумав: «Ему, Серафиму Однокрылому, тоже доля досталась не слаще. Женка Катерина до того доотрывала от себя, стараясь уберечь четверых дочек, что и сама сошла на тот свет… Так и не дождалась баба ни Победы, ни мужа-героя при медалях». – И участливо спросила: – Што так напыженный-то с утра пораньше?
– Да знашь, в недавнюю оттепель печная труба на потолке разъехалась по самый боров. Клал-то по морозу, вота она и сказала свое ласковое слово мастеру: ловко Ванька печку склал – и дым не идет! – сознался в своей незадаче Сим Палыч, швыряя в сердцах окурок, который замерцал на снегу ивановским светляком. – А сегодня вона, какая жахнула стужа!
– Вот те раз, а я-то думаю: што это дым из Серафимовой трубы не валит? – сокрушенно качала головой вдова, удрученная несчастьем Грачева. – Дочек-то хоть привел бы ко мне в землянку, а то не ровен час – выморозишь их, как тараканов.
– Да все, понимашь, ждал воскресенья, штоб исправить свою промашку, – тяжко вздохнул Грачев. – Ан, нет, опять слышу звонят колокола – созывают православных к лесной заутрене. Опять, обченаш, извините за выражение, – Грач-Отчепаш, прежде чем ругнуться, обычно извинялся, – Сталинская Вахта, будь она неладна, мать твою тах!
Грачев вернулся из госпиталя перед самыми Октябрьскими праздниками. Верховский его тесть, жалея своих пригожих внучек, отдал им свою летнюю избу, стоявшую в пристрое с зимней под разными крышами. Наскоро разобрали бревна, потом скатали их в реку и по последней воде сплавили в Новины… Дом однорукому вдовому фронтовику поднимали на мох всем миром. На толоке люди от души радовались, что положили зачин деревне. И втайне от счастливого хозяина, чтобы не вводить его в наклад, новинские вдовы сговорились справить на мирный Новый год первое послевоенное новоселье в погорельской деревне… И вот теперь, не ко времени, открылась незадача намечаемому, выстраданному за длинные годы войны празднику: у новосела, не раньше, не после, случилась беда с печной трубой на потолке.
– Худо дело-то, – обеспокоилась Марфа.
– Да уж хуже, обченаш, не могет быть, – согласился Сим Палыч и с надеждой в голосе сказал: – Щас буду отпрашиваться у начальства на день освобождения.
– К тому ж, седня воскресенье, когда и работать-то, оно хошь и не по своей волюшке, все едино – великий грех, – поддержала его вдова. – Да и не война уже, штоб так-от надсажаться-то. Утром просыпаюсь по побудке била и плачу от мысли: опять, Марфа, ты живая. Опять для тебя уготована кромешная лесная Голгофа. – И тут же подбодрила вдовца. – Ну, а ты, Палыч, отпрашивайся на освобождение. Негоже, штоб при живом отце, в мирное время, мерзли ребятишки. А чего не доделаешь за день, вечером, как возвернемся из лесу, придем на вспоможение.
И она истово обнесла его крестным знаменьем:
– Христос тебе в заступу!
Со стороны угора, где стояла старая рига, приспособленная под лесопунктовскую конюшню, послышались громкие голоса:
– Боюсь за лошадей, парторг! – трубно гудел в колючем морозном воздухе басистый голос начальника сезонного лесопункта Леонтьева, бывшего комбата, сапера-штрафника, оглохшего от контузии. – За наших Камрадов боюсь… Они только с виду таскать – живые тракторы, а той закалки на недокорм и небрежение к ним, как у нашего колхозного сивки-бурки Дезертира, у них нету.
– Не боись, начальник! – звонко и ободряюще заверил Акулин, «освобожденный» парторг лесопункта. – Сам знаешь, в дни Сталинских Вахт нашим Камрадам засыпается двойная порция овса.
– А ты, парторг, уверен, что конюх Яшка не хрумкает их овес? – возразил Леонтьев. – На что только пьет рыжий паразит?.. Спи и помни, комиссар: опустим в теле Камрадов – сразу заказывай гроб делу, ради которого, с зари до зари, рвем жилы – люди и лошади. И все наши кубики, поставленные на попа на людской кровушке, останутся гнить в лесу.
Начальству посочувствовала вдова Марфа:
– Когда только спят мужики? В конторе, где живут, ночью и свет, вроде бы, не гаснет… Вота, рань несусветная, а они уже с утренней поверкой успели побывать на конюшне.
– На то они, обченаш, и командиры, штоб в неурочную пору поверять свои позиции, – возгордился за фронтовое братство Грач-Отченаш.
Из-за поворота, скрытого бузиновыми зарослями, объявились медвежатый Леонтьев в распахнутом нагольном полушубке и маленького ростику Акулин в новой ватно-стеганой паре. А большие, еще не растоптанные армейские валенки делали его похожим на колобок, который как бы катился рядом с шагающей горой – Леонтьевым. И вот, чтобы привлечь к себе внимание глухого собеседника, да еще и на ходу, колобок Акулин, прежде чем сказать что-то, забегал вперед, взмахивая, как дирижерской палочкой, свернутой в трубку газетой, и тогда гора-Леонтьев, не сбавляя шага, клонил к нему голову.
– Говорю, за лошадей, Андрей Петрович, не боись, – успокаивал парторг начальника лесопункта. А так как он был из городских, к тому же еще и зеленый – едва перевалило за двадцать, – то и речь свою для солидности старался умащивать местным говорком. – С Камрадами, говорю, все будет путем!.. Ну, а людей я беру на себя. В обед к пшенной каше с постным маслом – лекцию толкну о международном положении.
– Куда б лучше, парторг, если бы мы с тобой в дни Вахт Вождя Вождей расстарались для людей по буханке хлеба сверх пайки, – помечтал Леонтьев. – Пусть бы тот же Серафим Однокрылый сегодня вечером на Новый год принес из лесу для своих Грачат морозный гостинец «от зайчиков»… Ну, а с этими вахтами, как бы они ни назывались, нам надо кончать. Хватит того, что всю войну упирались…
Свежеиспеченный политрук на излете войны рвался на передовую, уже на «чужой земле», боясь, что разразившаяся мировая заваруха закончится без него, волховского каширца Савелия Акулина. Товарняк, на котором он мчался навстречу своей планиде, не доезжая фронта, попал под бомбежку… Так и отвоевался мальчишка-лейтенант без медали, но пыл его к великим подвигам от этого не остыл. И на малодушие начальника Акулин сделал ему внушение: