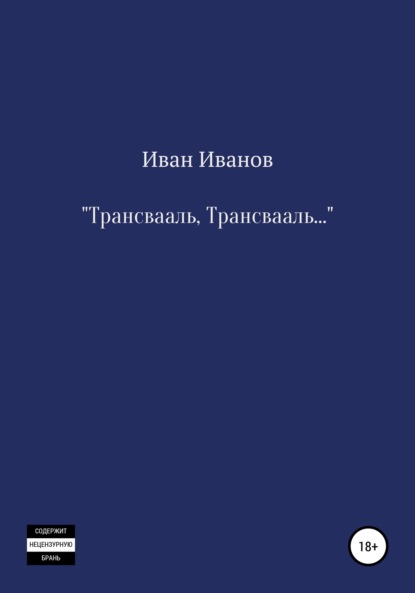По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай-хватай! – кто-то из мальчишек передразнил парторга и неузнаваемым голосом – по-петушиному крикливо затянул:
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия – впе-е-реед!
Но вот улеглись – и тяжелый лошадиный топот, и людская колготня, закончившаяся «зажигательной» песней, а она на таком-то морозе была как нельзя больше кстати.
Тихо стало на пустынной новинской улице, которая просматривалась сквозисто на все четыре стороны. И только умом можно было догадаться, что здесь еще теплится человеческая жизнь. В сырых землянках, как мыши в норах, сейчас во сне попискивали голодные дети да ворчали от бессонницы и ломоты в костях живучие старухи. Не в пример им, старики же еще в первую военную зиму, не сговариваясь, оставили этот несогласный бренный мир. Только на одного лишь Никанорыча, видно, и была спущена с неба строжайшая охранная грамота: костлявой с косой, ни-ни, не трогать одноногого гармониста – будут праздники, мол, еще и на новинской улице…
Откуда-то приковыляла худущая собака с подбитой задней лапой. Как нищенка, поскуливая, она заюрила перед конторским крыльцом в надеже – не выйдет ли сторож-старик и не впустит ли ее, бедолагу, погреться хотя б у порога. А может, еще и подаст завалявшуюся корку хлеба, если таковая найдется. Но дверь не открывалась, да и в окошках было темно, и вкусным дымом из трубы не тянуло. И заскулила собачка пуще прежнего, видно, догадалась – спутала дни недели. Сегодня ж был особый день… Оттого и собрались новинские лесовики в свои деляны – ни свет, ни заря.
Тогда она села напротив била, а оно казалось ей каким-то живым существом, раз подчиняются его громоподобному голосу большие мураши-человеки, горемычно утупила в землю свою узкую лисью морду и в каком-то преклонении перед сокрытой для нее дьявольской силой протяжно взвыла. Да так тоскливо, хотелось заживо лечь в могилу и умереть без молитвы… Даже на небе ночной гуляка, молодой рогатый месяц, и тот струхнул, забоявшись, уж не к покойнику ли плачет собачка? Он незаметно завалился за крышу старой риги на угоре, и вызвезденное небо враз померкло. Словно бы там, в несусветной Выси, кто-то догадался задуть заутренние лампады. Нече, мол, зря жечь, масло! Ложитесь-ка спать, несчастные полуночники. До света еще – ой, ой…
* * *
Над раздетым донага, заснеженным бором плавал сизыми облаками едучий хвойный дым. Он тянулся с ближних делян, где шел лесоповал. Стоило налететь шалому ветерку, и дым начинал метаться среди редких прямоствольных сосен-семянок, оставленных на вырубках для самосева. Он, словно бы невидимый бойкий коробейник, примерял газовые шали на высоко вознесенных в небо макушках дерев.
На взгорке, в затишке мохнатого соснового подроста, был разбит кулешный бивак, состоявший из двух закопченных банных котлов, подвешенных на одну жердь на козлах. В одном варился неизменный пшенный кулеш с постным маслом и «с дымком». В другом кипятилась вода для целебного – от цинги – «лесного» чая, заваренного на еловой и сосновой хвоях и березовых почках. Вокруг котлов лежали разбросанные плахи, вытесанные из сухостойных лесин. На них лесовики каждый день – один раз обедали и трижды выслушивали зажигательные речи парторга Акулина. Утром она была совсем краткой и бодрой на размайку: «За работу, товарищи!» А в обед, после кулеша, как бы на второе подавалась им лекция о международном положении: «О коварных кознях мирового империализма. Вечером, перед тем, как собраться домой, здесь же, у так называемого – с легкого слова Леонтьева – «алтаря», дощатого щита, оглавленного широкой доской все тем же, как и над окнами конторы акулинским лозунгом: «НАРОД – ПОБЕДИТЕЛЬ! НАРОД – ТРУЖЕНИК! КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УНЫВАЕТ, НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ТРУДНОСТИ!», подсчитывали, заготовленные в делянах и вывезенные на нижний склад кубометры, то есть поставленные за день «кубики на попа».
Тут же около котлов обитали в дни «Сталинских Вахт» и лесопунктовские «тыловики», сидя на сухостойных чурбанах. На одном конюх Яшка-Колча точил пилу-двуручку. На другом конторский сторож-истопник взмыленно наяривал на своей тальянке и в полглаза бдил за знаменем, водруженном поодаль от бивака на длинный шест, чтобы отовсюду было видно. Прожженное искрами, оно походило на боевое. К нему-то и был приставлен «почетным часовым» старик Никанорыч: недремно стерег его, чтобы случаем вовсе не сгорело б.
Главдя подбросила сухих сучьев под котел с чаем и костер, было погасший, ожил, трескуче занялся и стал старательно лизать красными языками закопченные бока котла. Никанорыч, приметив, как развернувшийся дым с искрами потянул в сторону охраняемого им «объекта», сложил с колена гармонь на чурбан и поспешил на выручку знамени, завоеванному новинцами за первый зимний квартал. И тут же с дальней деляны донесся недовольный голос Акулина, почему не слышно, мол, музыки?
– Никанорыч, валяй-валяй!
– Давай-хватай, – брюзжал старый гармонист, переводружая «честь лесопункта» в безопасное от искр место. – Покурить не даст… Загнал, как лошадь, хватай-давай!
Не по росту рукастый гармонист, слегка покачивая свою тальянку, растянул ее в целую сажень, давая ей набрать полные меха воздуха. Потом стал не сжимать ее, а как бы тискать, щекоча бока девки-хохотуньи своими прокуренными до желтизны пальцами. И нарядная, как прялка, гармонь, вертляво перегибаясь на ходившем ходуном колене, голосисто зашлась, внятно выговаривая: «Барыня, барыня, сударыня-барыня!»
Тут и Яшка не сплошал – задергал плечами, захлопал, как крыльями, ладонями по бокам и ляжками и забористо подпел:
Ух, ух, я – петух,
Кто куриц топчет!
Чернобровая моя —
На яичках квохчет!
Потом он отвесно вскинул пилу и заколебал ее каким-то искусным движением руки, и та отозвалась певучим звучанием, подлаживаясь под Никанорычеву гармонь, введя стряпуху в веселое искушение:
– Черти – старый да рыжий! – шутливо обозвала она музыкантов. – И мертвого поднимут из могилы своей игрой!
Разрумяненные кухонными хлопотами, жаром костров под котлами вперемежку с добрым морозом и прильнувшейся молодой кровью, шалой от лесопунктовской каши с постным маслом, щеки ее пламенели алыми маками. И как она ни крепилась, а пришлось-таки ей сложить на крышку котла свою большую, как речное весло, мешалку. И вот она, первая плясунья деревни, легко помахивая руками, – казалось, вот-вот вознесется гулей над соснами-семянками, – пошла вокруг котлов, выставляя напоказ перед музыкантами – так и этак! – свои валенки-мокроступы, подшитые неизносным кроем из старой автомобильной шины.
Не стерпел и гармонист, тоже внес свою лепту в бивачное веселье, подпел ржавым от убойного самосада голосом:
Мимо сада, мимо рошши,
Мимо тешшиной избы —
Тешша глядь в окошко, блядь,
Как хорошо играет зя-ять!
– Пиеса Барыня, а ну, сообрази с картинкой! – попросил бабник Яшка, пялясь на расходившуюся девку, как на переспевшую малину-ягоду своими охальными зенками.
– А што?! – не переставая наяривать на гармони, всхрапнул старик, словно сивый мерин со сна, которому только что привидилось, будто бы стригуном гулял во чистом поле среди молодых необъезженных кобылиц. – Можно, Яшка, и с картинкой скулемесить! – Он насмешливо метнул помолодевшим взглядом на пляшущую стряпуху, на играющего на пиле пилостава-конюха и выдал:
Пляшет барыню пердушка-а
Рыжий кот, ухмылясь зрит.
От такой кулемеси Главдя аж подкосилась. Плюхнулась на сухостойную плаху-лавку своим вихлястым задом и в изнеможении повалилась на спину, сложив руки на груди. Покойница да и только! Но вот она колыхнулась и томно застонала:
– Ох, тошненько мне… уморил-таки, Пиеса Барыня!
А гармонист невозмутимо сдвинул с взопревшего лба на макушку прожженный искрами облезлый треух и, чтобы оживить умиравшую от шутки девку, сменил свой репертуар:
– Дак, пиеса «Последний нонешний денечек»! – объявил он, как всегда с достоинством.
И вот уже над оплешивившим бором поплыли кругами печальные, как заупокойное отпевание, мелодии Никанорычевой тальянки. И опять с дальней деляны донесся недовольный голос парторга:
– Пиеса Барыня, ау-у-у! Перемени пластинку… Мобилизующую валяй!
– Давай-хватай, – пробурчал гармонист, но ослушаться начальству не посмел. – Вставай, Главдя, пиеса Мозолезуюшша-ая! – козырнул он перед стряпухой мудреным словцом, молодцевато запел, напирая на букву «ш»:
Мы – кузнецы и дух наш молод!
Куем мы к сшшастию ключи…
Яшка больше уже не подыгрывал на пиле. Сидя на чурбане, он все еще в изнеможении всхрюкивал, держась руками за живот:
– Ловко, ловко, дед, ты поддел меня… В самое яблочко попал! – И уже было затихая, он снова загоготал. – Гы-гы-гы, гармонист, гляди, нога горит у тебя!
– Пушшай обуглится – дольше не сгниет! – отмахнулся старик, продолжая наяривать на тальянке.
Он даже и не подумал отодвинуться от огня. Тогда Яшка, в знак особого расположения к гармонисту, не поленился встать с чурбана, принес в ковше студеной воды из бочки, только привезенной с лесного ключа Ионкой Весниным, и плеснул ею на Никанорычеву деревягу, которая с шипением зачадила…
* * *
А в это время в дальнем углу лесосеки новинский «обрубыш» Серафим Однокрылый, навряд ли слыша Никанорычево «мозолезующее» увеселение, как и утром перед билом, все бубнил себе под нос одни и те же слова: «Знашь-понимашь… понимашь-знашь… обченаш…»
И мужик добубнился до злодейства над собой. Решил замахнуться топором… на собственную ногу. Как бы невзначай, самую малость, тюкнул по большому пальцу.
Под таким вот неблаговидным предлогом Грач-Отченаш замыслил выкрасть для себя из законного выходного хотя бы полдня. Чтобы потом, зажав в свой разъединственный кулак совесть путевого мужика и честь фронтовика, потопать к себе домой – поправлять порушенный очаг, тепла которого ждали его иззябшие дочки. И он решился…
Когда Ионка Веснин обернулся на своем Дезертире за очередной навалкой дров-метровок, Грачев стоял на одном колене, вперившись каким-то отрешенным взглядом в разрубленный носок сапога. Не видя и не слыша, что к нему подъехали, он обескураженно шептал: «Экая опакишь вышла, извините за выражение…»
Мальчишке показалось, что сосед убивается над разрубленным сапогом. Он хотел было уже ободрить его: ерунда, мол, все – сапог можно залатать. Главное, нога целой осталась, раз кровь не идет. И тут остолбенел: на его глазах (а видел он сейчас перед собой, будто во сне, в каком-то замедленном движении) Грачев вставил топор лезвием в проруб сапога, а конец топорища для устойчивости припер сверху культей. И тут же освободившейся рукой потянулся к увесистому суку-обрубышу… И вот он уже замахивается суком и ударяет им по обуху топора. Ионка, все еще не осмысливая до конца, но как-то догадывается, что-то неладное творит с собой сосед. Он хотел крикнуть ему об этом, а голос – опять же, как во сне, – не повиновался ему. И только тогда, когда из проруба сапога струйкой брызнула кровь, его прорвало не своим голосом:
– Дядька Сима!
Грачев всполошенно вскочил на ноги и осипшим до неузнаваемости голосом спросил:
– Это ты, сусед?