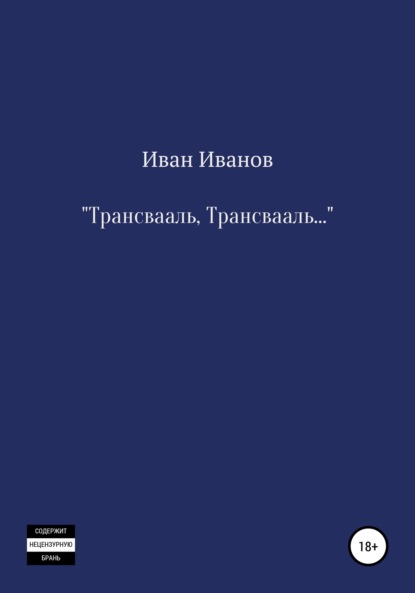По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда же внук увидел свою бабку, он онемел от страха. Ему казалось, что к нему идет с суковатой палкой сама Баба Яга в разорванном в лохмотья сарафане; ноги ее были разодраны до крови, в остановившихся глазах горел безумный огонь, свалявшиеся в космы волосы, разглядел он, были совершенно сивыми. И лишь только по голосу признал в ней свою заступницу…
Приведя внука к себе на пепелище, бабка Груша, после долгих блужданий по лесу, не улеглась спать. Даже на самую малость не прикорнула под вербой Старая Вера. Съела пару печеных, прямо с грядки, картофелин; потом разыскала на огороде каким-то чудом уцелевший от пожара заступ, пошоркала им по источенному ногами веснинского рода жернову-приступке перед бывшим крыльцом, истово перекрестилась и принялась рыть землянку в еще не остывшей золе. И место для нее долго не выбирала – рядом со своей печкой, которая, казалось, вышла из полымя еще несокрушимее. Только-то и всего, что дюже закоптела, а так, ну, не единой трещины. Затаскивай в ее черное чело «максима» – и уже не печка-кормилица, а опаленный в бою броневик!
Очнулся мальчишка от причитаний бабки Груши, которая, окрест оглядывая, разговаривала сама с собой:
– Пока снег-то лежал, все не так бросалась в глаза нежить земли.
Для мальчишки же самой удручающей «нежитью» в этом развороченном мире были горелые березы: они чудились ему какими-то дремучими старухами в черном, которые неслышно брели по обочинам бывшей новинской улицы на погост, чтобы лечь там в тихую сень своих белоствольных сестер. Деревенское кладбище виднелось за рыжим, как волчья шкура со свалявшейся шерстью, лугом: сейчас, в безлистие, казалось, будто над веселым бугром зависло сплетенное из набухших ветвей берез сиреневое облако, подпертое высокими меловыми столбами. Там, на родовом последнем прибежище, под новым некрашеным крестом с выжженной жигалом краткой пометкой, покоилась и Ионкина мать – красивая и молодая:
«ДАША ВЕСНИНА 1912–1941 гг.»
Бабка Груша на этот раз держала в руках доску со следами автомобильных шин. Ее она по осени выважила из дорожной грязи – видно, военные обронили, когда везли пиловочник к себе на передовую для блиндажей, – намыла в ручье, потом высушила на солнце и спрятала под еловым лежаком.
– На гроб-от себе припасла… Да только из одной-то тесины его не сколотишь. А вот птюшкам на дом – в самый раз будя! Так что, внучек, берись за дело да смастери скворешню. Никак не можно допустить, штоб наши скворки пролетели мимо. Иначе у нас совсем одичает земля.
Вскоре над новинскими пепелищами, под нестихающие ни днем, ни ночью громы войны, вдруг раздался робкий перестук молотка. Казалось, сама жизнь стучится в невидимые двери, набранные из тепла и света.
А перед полуднем и вовсе взбудоражило земляную деревню от известия: «Внук столяра Ионыча вывесил скворешню у себя на горелой березе!» И вот уже на веснинское пепелище потянулись новинские жители, изнуренные за долгую зиму – голодом, холодом и похоронами. Можно подумать, у новинских горемык только и забот было, как гадать: прилетят ли нынче к ним скворцы или нет? Обступили молодого мастера и, не замечая неказистости поделки, давай расхваливать его на все лады:
– Гля-кось, какую выстукал хоромину!
– Сразу угадывается, чей копыл!
– Малец смекалкой пошел в деда, а ухваткой-то вышел в отца.
– Да разве можно сделать что-то путное горелым струментом? – по-взрослому рассуждал мальчишка, набивая себе цену.
– Не горюй, Ионка, дай только отогнать от ворот вражину, в городах нам снова накуют струментов и гвоздей новых, – утешала Танькина мать Катерина Грачева и чуть было не проговорилась: «И будешь у нас плотничать вместо отца». Вот уже ползимы соседка носила у себя в кармане похоронку на Ионкиного отца Гаврилу. Боялась, как бы от такого известия не преставилась бабка Груша. Тогда бы и вовсе осиротел мальчишка. А дядина жена, крестная Паша, была для него не в счет: она рыла окопы на оборонных работах.
И тут кто-то радостно произнес:
– А вот и хозяин объявился на новые хоромы!
И верно, из летки скворешни выглядывала черная птаха. Но то был не скворец, а чумазый веснинский воробей, которого бабка Груша по-свойски называла Вдовцом. Во время сожжения Новин вместе с деревней сгорели и все домовые воробьи. Где бы им, бестолковым, лететь прочь от огня, а они со страху ринулись в свои гнезда под застрехами и за наличниками… Так сгинула в пожарище и веснинская воробьиха со своим выводком. И только уцелел сам воробей. Видно, в это время кормился где-то на дальнем гумне или полевом одонье.
– Кыш, замараха! – крикнул Ионка, схватив с земли щепку. – Для тебя, что ли, старались?
– Энту птюшку, внучек, грех обижать, – заступилась бабка Груша. – По мне, краше воробья и птахи нету на свете. Другая б на месте ее давно б улетела искать себе край, где потеплее да посытнее, а она – наравне с человеком – терпит и глад, и стужу, и вдовство свое. А зимой только чуток солнышко проглянет, она и душу повеселит людям своим чиликаньем… А ежель прилетят наши скворки – сами разберутся, кому остаться в доме за хозяина.
Мальчишка виновато опустил щепку. Как же стыдно: на кого поднял руку? Можно сказать, на брата родного… ведь оба родились под одной веснинской крышей. С той лишь разницей, что он, Ионка, в чистой горнице, в воробей – за голубым наличником. И теперь один живет в землянке, другой – в остывшей печной трубе, оттого и были одинаково чумазыми. И совсем стало не по себе мальчишке, когда вспомнил, как однажды зимой, в приступе голода, он покусился было на жизнь Вдовца. Хотел изловить его силком, изжарить на углях в печурке и съесть. Ничего не скажешь, хорош братец!
А воробей-замараха словно бы догадывался, что новинские судачили о нем. Выпорхнул из летки и давай кружить вокруг березы, столбя свои владения, и на весь мир вещал: «Чур, мой! Чур, мой!»
Радующуюся птаху подбадривала набожная вековуха тетушка Копейка, еще до войны усохшая от непорочной жизни и строгого блюдения постов:
– Пой, птичка! Пой громче, могет, от твоей песни омертвелая-то дресва на березах и воскреснет, на головешках проклюнется листва.
Она растроганно плакала и иссохшей рукой истово осеняла крестным знаменем горелые березы.
* * *
К толпе на пепелище подошла небольшого росточка, худенькая молодайка с конопатым лицом. Фуфайка на ней была словно бы изрешечена дробью, сплошь прожжена искрами; за плечами – видавший виды тощий сидор; по-за спиной, за опояску, по-мужичьи – засунут топор. Это была младшая невестка бабки Груши, Паша Веснина. Молодая Данилиха, крестная Ионки, вернулась с зимних оборонных работ.
В ту первую военную зиму было неслыханно трудно солдаткам-матерям, но для них дети были и охранной грамотой материнства. После сожжения Новин Паша Веснина, безвременно родив, а затем и похоронив своего недоноска, стала бездетной солдаткой. И сейчас несет свой непосильный крест войны – за себя бездетную и за всех детных матерей страны:
– Мастер, глянь, кто пришел-то к нам! – кто-то толкнул мальчишку в спину. Тот оборотился и несказанно обрадовался.
– Крестная?! – вскричал он и, чтобы скрыть непрошенные слезы, ткнулся лицом в грудь молодайке, задохнувшись от терпких запахов хвои и дыма. Дрожа осиновым листом на заре, он сдавленно шептал:
– Крестная, ты так долго не приходила… Я думал, что ты теперь никогда и не придешь к нам.
Паша еще крепче прижала к груди голову крестника, стянула с нее шапку и дважды чмокнула в его двухвихровую маковку, шепча: – Да куда от вас, горемык, денусь.
А в это время на крышке скворешни воробей-замараха, радостно чирикая, такие выделывал переплясы-подскоки, что Паша невольно рассмеялась:
– Ну вот и справили в наших Новинах первое новоселье.
Веснинской невестке никто не ответил. Новинские сознавали: ох, еще не скоро придется справить им свои новоселья – переселиться из землянок в сухие, теплые избы. Прежде надо было дожить до мирных дней, а когда они наступят, никто не ведал… И только из голенастого и звонкого березового колка кукушка желала обездоленным войной людям долгих лет жизни.
– Бабы, сыт ли кто? – послышался чей-то вопрошающий голос (в народе живет поверье: если весной услышишь первую кукушку натощак, так весь год не видать сытости).
– Так сыты, что и поисти запамятовали, – горько шутили новинские погорельцы, расходясь по своим землянкам.
Как только остались не на людях, свекровь, придирчиво оглядев невестку, строго спросила:
– Ты чё такая… худая-то, и лица не узнать? А в стати вроде б поправилась?
– Сплоховала я, мама, – и Паша заплакала.
Этот разговор они продолжили уже в землянке. Ионка, умаявшись за день со скворешней, распластанно лежал на своем еловом лежаке и сквозь сон слышал их голоса, никак не возьмя себе в толк: «О чем это они гундосят?»
– Говорю тебе, мама, нашло какое-то затмение на меня, – каялась слезно крестная. – Вышло так… вроде б пожалела солдатика. Молоденький такой… на фронт уходил и никого еще не любил. А на слова-то бойкий, грит: «Парасковья Семеновна, война все спишет».
– Че мелешь-то, Параскева Семеновна?! – послышался клокочущий смешок бабки. – Эва, как еща можно облапошить дур длинноволосых. Держи рот шире – галка влетит. Блуд есть блуд!
– Знаю, мама, локоток-то вота он и близок… И не будет теперь мне никакого прощения от моего Даньки. Поэтому и прошу тебя: сходи к Стеше-Порче. Пускай придет ко мне и освободит меня от позора.
– И не подумаю взять на себя грех детоубивцы! – гневалась бабка. И, переведя дух, снова продолжала выговаривать невестке, но уже отходчивее. – Не ты – первая, не ты – последняя. К тому ж, от такой срамины ни один мужик еща не околел. Не околеет и твой Данька, лишь бы Господь помиловал его на войне. Чьи б бычки ни прыгали, а телятки-то все наши, – И бабка взвыла в голос: – Ох, тошнехонько мне!..
Ионке хочется пожалеть, утешить самых близких ему людей на свете: крестную мать и бабку – крайнюю заступницу их веснинского рода. Но нет никаких сил разодрать глаза, будто их кто-то залепил кашей. А тут еще и ручей, зараза, своим веселым лопотаньем, доносившимся через сквозистую трубу печурки, все уговаривал его побежать с ним – в довоенную мирную жизнь.
И вот он снова в своей бывшей избе: сидит за столом. Да так кстати – на блины попал! А он-то думает, что это так вкусно пахнет праздником? Ясное дело, в это утро и печь топили дровами из особой поленницы, высохшей до гулкости. По случаю блинов на бабке чистый передник, голова повязана по-девичьи, поверх ушей, легким платком; и у шестка хлопочет не по годам увертливо. Ионке не раз приходилось слышать от нее присказку молодухам: «Блины печти все едино, што и цепом молотить, только надоть быть бабе еща посноровистее!»
Внук то ли слышит, то ли догадывается, о чем говорит ему бабка: «Ты пошто за столом-то сидишь, как на Ивана-постного? Хватит тебе исти простые-то блины – ноне ить масленица! Вона, наваливайся на красные блины. Да не забывай блином-то макать в скором! Кто таких блинов не едал, тот и скусного дива не ведал».
Ионка знает: красные блины заведены наполовину из гречишней муки. А для него они были не просто «скусным дивом», но еще и «волшебным зеркалом». Если через него посмотреть в окно на свет, чего только не увидишь в нем. Вот и сейчас, прежде чем свернуть красный блин в трубку, чтобы по подсказке бабки поглубже макнуть им в скором – горячее душистое масло, он по обыкновению поднес его к глазам. Глянул сквозь его золотистое кружево в окно на морозное солнце, а там – по ту сторону «волшебного зеркала» – вовсю гуляет свадьба его крестных.
– Ловко у них получилось – сперва покумились, а теперь вот и поженились! – шумело захмелевшее застолье.