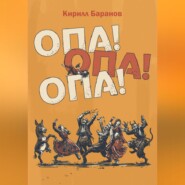По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Песня любви Хрустального Паука. Часть II. Книги Юга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это Устыыр.
– Что?! – воскликнули Сардан и Ашаяти одновременно. – Как Устыыр? Он стал птицей?
– Не птицей, не зверем. Устыыр исчез, он не человек больше. Не иэзи. Он земля под ногами, облака над головой. Он мокрые листы здешних деревьев и волны на реке. Шаманы называют эту птицу хаыршах. Каждый шаман связан с хаыршах через иэзи его сущности, связан с сущностями Верхнего и Нижнего Миров, как связаны цветы в поле и муравьи на деревьях. Когда умирает шаман – умирает тело. И если шамана хоронят должным образом, то иэзи его тела перемещаются в хаыршах и позволяют птице странствовать между мирами. Часть сущности Устыыра живет в хаыршах.
– Что это значит? Сознание Устыыра передалось птице?
– Нет, Устыыр мертв, но часть его побуждений Среднего Мира, часть его стремлений и сущности вместе с иэзи стали частью хаыршах. Эта птица состоит из сущностей многих шаманов. Сущности и силы могущественных шаманов далекого прошлого и будущего стали частью хаыршах. Их мысли владеют теперь птицей. Мысли травы и кустов, мысли гор и морей, мысли всего, к чему вы можете прикоснуться руками и всего, к чему не можете. Это чудовищное создание.
– Это для меня как книжки читать, – заявила Ашаяти. – Я ничего не поняла.
– Много людей погибнет, когда ведомый страстью Устыыра хаыршах заберет тангыыр. Если не вообще все.
– Вот это друзья у вас, – сказала Шантари. – Кто такой этот Устыыр? У него зуб болит? Встал не с той ноги и хочется кого-нибудь убить? Хотя и у меня такое бывает…
– Я не могу знать желаний Устыыра. Я видела его лишь несколько раз и никогда не говорила ему слов. Никому не ведомы мысли шамана, но каждый из нас томим одной жаждой. Каждый шаман имеет мысль, которой нет у других. Вы должны знать это. Шаманы – не люди. Часть нашего тела и нашей сущности – иэзи. И эти иэзи, как мы наполовину они, так и они наполовину мы. Наполовину люди. Через иэзи мы чувствуем Средний Мир, мы слышим и видим Нижний и Верхний Миры. Камланием мы обращаемся к иэзи всех миров и ко всему живущему, ко всему умершему и не родившемуся. Мы люди Среднего Мира лишь наполовину. Потому нас нельзя победить, и потому наша жизнь соткана нитью страданий. Наша жизнь – кровоточащая рана в том месте, где нет второй половины. Мы разорваны на части. Мы живем в Среднем Мире, и в Нижнем Мире, и Верхнем одновременно, мы повсюду, как деревья, с которых ветер сорвал листья и разметал по свету. И наши раны болят. Они болят каждый миг нашей жизни. Каждый вздох шамана несет ему страшную боль. И чем больше иэзи нас окружает – тем сильнее, тем невыносимее страдания. Когда иэзи слишком много, боль может забрать у шамана разум. В Ооюте такие поля есть и такие рощи, ущелья и селения – куда не зайти ни одному шаману. Иэзи живут в таких местах. И если шаман прикоснется к ним, то умрет от боли. Иэзи – часть нашей сущности и наша сила. Благодаря им нас боятся, превозносят и презирают. И они – наше проклятие. Иэзи обрекают нас на вечные страдания. И мертвым шаманам не найти покоя. Все три мира ненавидят нас. И мы не принадлежим ни одному из них. Все три мира разрывают нас на части. Мы повсюду – и нигде. Тангыыр может это изменить, может избавить шаманов от проклятия.
– Как? – спросил Сардан. – Чего хотел Устыыр? Подчинить духов? Стать королем шаманов?
– У меня нет таких мыслей, – Кюимеи покачала головой. – Я не видела дыхания Устыыра. Жажда покоя и добра вырастили в нем желание владеть тангыыром. Но его путь к добру шел по дороге зла. Хаыршах живет мыслями Устыыра. Он хочет тангыыр, чтобы призвать иэзи всех миров. Он заточит их всех в тангыыре – и уничтожит навсегда.
– Зачем?! – не понял Сардан.
– Терзающее шаманов проклятие боли исчезнет вместе с иэзи. Мы живем с этой болью с рождения и каждый день проклинаем свою жизнь. Вы не знаете этих чувств, но можете их понять. Суньте руку в костер, и у вас останется лишь одна мысль, как вынуть ее обратно. Шаманы в костре всем телом и не могут его покинуть.
– Ну так отдай ему посох и всё, – сказала Ашаяти.
– Вы не понимаете. Иэзи – часть мира, часть сущего. Они часть всего, и без иэзи нет жизни. Уберите стены – крыша свалится на землю и убьет всех под ней. Нельзя просто вынуть из тела больную печень. Нельзя отсечь голову и не убить человека. Вместе с иэзи – погибнет мир. Города падут под землю, океаны затопят степи, холодные реки проглотят деревни, разломятся горы. Люди, хранящие в своей сущность крупицы иэзи, такие люди как Джэйгэ или музыкант, непременно погибнут. Человек не живет без сердца. А земли, рек и гор нет без глаз, которые их видят, без рук, которые к ним прикасаются.
– Без мозгов люди вполне уживаются, – не согласилась Ашаяти.
– Уж ты-то знаешь, – кивнул Сардан.
– Мир обратится в руины, – закончила Кюимеи.
– А что шаманы? – спросил Сардан. – Что случится с вами, если в вашем теле так много иэзи?
– Кто знает такие мысли? Кто не видел зимы, тот не знает какой холодный снег. Боль сильнее страха, а шаманы не боятся смерти. Кто хочет жизни, где есть одна боль? Вы, люди, ищете счастья в чужих глазах, а мы в избавлении. У шаманов всего одна мечта.
– И у тебя?
– Я слабая шаманка. Я почти не занималась камланием и никогда не брала в руки бубен. Отец ничему меня не учил. Иэзи не смотрят на меня, и мои чувства слабы. Чем могущественнее шаман, тем сильнее его боль, – она помолчала пару секунд. – Мои глаза видели руки отца. Они были изуродованы шрамами от ножей и зубов. Так он пытался одолеть одну боль другой.
Карета проехала через небольшую рощицу на склоне и оказалась на окраине заброшенного города. Высокие дома чернели пустыми окнами в зарослях кустов, сквозь трещины в толстых латеритных стенах протискивались из тьмы ветки деревьев, как трава сквозь кости брошенного в степи скелета. Потрепанные серые листья трепыхались под дождем, уныло тянулись к земле тусклые цветы. На холме стоял дом с обвалившимся наполовину стеклянным куполом, а позади него высились длинные трубы. Карета свернула ко дворам. За оградкой поскрипывали какие-то непонятные металлические конструкции, а дальше Сардан увидел разбитые качели. За городом обуглившимися трупами лежали руины древних мануфактур, давно покинутые и забытые. А некоторое время спустя среди заросших полей показалась деревушка с хлипкими домиками из древесной коры. В отличие от красноватых громад города, в этих нищих шалашах жили люди. За ставнями мелькал огонек, пугливые струйки дыма скромно поднимались из труб. Прямо по заросшему полю шла старуха и тащила за спиной корзину с дровами.
И внезапно среди поля вырос лес – гнетуще бесцветный, высоченный, трепыхающийся нищенскими лоскутами листьев. Между деревьев шевелились безобразные волосатые существа с длинными тонкими лапами и бесформенными прыщавыми физиономиями. Настороженные звери переползали с ветки на ветку и провожали карету бессмысленными взглядами.
– Какие замечательные страшилища, – прервала затянувшееся молчание Шантари.
– Прямо возле деревни, – добавил Сардан.
– А что вы хотите, господин музыкант, и чудищам надо где-то жить, – сказала Шантари. – Они-то многого не просят – деревце, кустик, они и без дверей уж как-нибудь обойдутся. Были бы двери – всё равно бы не запирали, – она подумала и продолжила с горькой улыбкой: – Хотя чудища, конечно, бывают разные. Кому-то хватит и маленькой норки, а самым гадким подавай золотые дворцы с канделябрами. Я недавно была на юге Ланхрааса и сейчас возвращаюсь в Чауянати. По реке не проплыть! Всё запружено ботами, джонками, баржами каких хотите размеров и высот – все тащат лес, бревна! Вывозят даже пни и гнилой хворост, всё вообще. Весь юг – пыльная пустыня. По берегам Аривади – полумертвые деревушки, заросшие поля цветут обреченно и печально – и никакого леса! Мы плыли неделю и не видели ни одного деревца. А местные ланхры и кариты с холмов рассказывали мне, что еще лет тридцать назад вместо сухих лугов и пустынь росли джунгли. Как раз тогда, после многих лет изгнания, к власти в Ланхраасе вернулись короли, и повсюду двинулись армии лесорубов. На бревна ломали и мануфактуры прежних времен, мастерские, которые стали никому не нужны. Мы проплывали мимо останков одной из них – там повсюду разбросаны инструменты, все эти молотки, клещи, наковальни. И ни души вокруг… На старых верфях, где тридцать лет назад строили грандиозные корабли, нам не смогли починить руль на шхуне, потому что не нашлось умельцев – деды умерли, а молодежь научилась разве что деревья рубить… Пока в Чауянати не затихают танцы, некому следить за руинами, за дамбами. Аривади с каждым годом всё дальше выходит из берегов, смывает деревни и последние посевы. А потерявшие леса звери юга стадами уходят на север и толпятся в здешних рощицах, как драгоценности в королевской сокровищнице. Где раньше бегал тощий вепрь на один лес, теперь под каждым кустиком клыкастое чудище. Шагнешь беззаботно – сунешь ногу кому-нибудь в пасть.
– Какому-нибудь тайэ, вроде тех, что напали на нас в лесном городе, – сказал Сардан.
– Стыдно признаваться, но эти дикари дальние родственники демонов. Хотя между людьми и шимпанзе, в конце концов, тоже ощутимое сходство.
– Мне кажется, эти тайэ больше похожи на матараджанских веталов.
– Веталы бывают разные, дикие и не очень. В Матараджане некоторые из них вертятся в аристократических кругах, есть даже знаменитый писатель. Пишет исторические романы, хотя сам неграмотный и всё выдумывает. Но с удовольствием поносит в книгах предыдущую династию, поэтому его много печатают. В какой-то степени и веталы наши родственники. В каждой семье должен быть свой дуралей. Родством с маками и орангутангами тоже не особо возгордишься.
– Что?! Твои родственники – макаки? – хихикнула Ашаяти.
– Не макаки, а веталы, – терпеливо объяснила Шантари. – Не родственники, а представители одного отряда. А макаки – это твои родичи.
– Ни одной макаки в семье еще не было! – возмутилась Ашаяти.
– И у меня, – подтвердил Сардан, – но некоторые называли макакой меня.
– Бабуином, – поправила Шантари.
– Голозадым, – добила Ашаяти.
Сардан посмотрел на нее и улыбнулся.
– Что? – насупилась девушка.
– Хочет сказать, что ты сама та еще мартышка, – расшифровала взгляд музыканта Шантари.
– И почему же не говорит?
– Боится.
– Правильно делает. Бабуин.
– Какие вы ядовитые, – расстроился Сардан и отвернулся к окну. Он долго молчал, а потом заговорил так внезапно, что Шантари выпустила из пальцев хвост: – Я никогда прежде не был в Ланхраасе, но слышал много рассказов о красочной стране Великой Реки, вода которой отражает обсыпанные гуавами и лимонами деревья, где на берегах стоят величественные красные города и люди под вечно голубым небом не бывают голодны. Но мои глаза не видят ничего кроме серости. Такой же серости, как и повсюду – куда ни пойдешь. У каждой птицы свой цвет, а страдания у людей одинаковые.
– Что поделать, сияние прежнего Ланхрааса теперь заперто в сокровищницах королей и купцов, – сказала Шантари. – Дети толстосумов расплясывают лесное золото на балах Сенегримы и Ракасинги, растрачивают в развратных кутежах добытое разорением Ланхрааса, а когда закончится лес и здесь больше нечего будет взять, вся эта братия, все эти короли и хозяева чужих жизней – все вместе потекут за моря, кутить и разорять другие несчастные народы. У таких нуворишей нет родины, их совесть, семья и боги – золото, и они умеют находить золото во всем. Вы знаете, сколько было в Ланхраасе школ? Тысячи. А теперь осталась одна – в столице, в Чауянати. Сэкономленные на школах средства сияют в министерских сокровищницах. А сколько было лечебниц? Мануфактур? Мастерских? Еще недавно Ланхраас был богат и силен, он жил как умирающий аскет, который в последние мгновения жизнь захотел перепробовать всех жизненных удовольствий. Мастера сооружали невообразимые механизмы, изучали звезды, спускались на дно океанов, они построили каналы и дамбы на Аривади, которым завидуют Матараджан и Великая Нима, с их постоянными наводнениями. Поля плодоносили и в Ланхраасе не было голодных! Возводились театры и концертные сцены. Поэзия старого Ланхрааса – вершина человеческого искусства! А их корабли из металла? Они резали северные льды! И в один миг всё рухнуло под давлением человеческой алчности. Всё, что осталось от былого великолепия – руины и кости. Нет больше мануфактур, лечебниц, школ. Новая поэзия неинтересна и сочиняющим ее поэтам. А видели бы вы театры!.. Впрочем, еще наглядитесь. Печально, что нынешний Ланхраас не совсем понимает кем он стал. Он продолжает жить прошлым, продолжает воображать, будто по-прежнему сияет, как и много лет назад, и полагает даже, что достижения прошлого, подвиги тех давно ушедших людей, с их возвышенными мечтами и ценностями, – это подвиги ожиревших королей нашего времени. Как будто не люди прошлого, а он, новый Ланхраас, танцующий на костях, накормил обездоленных и вырастил прекрасный сад…
– Может быть…
– Нет, господин музыкант. Сада больше не будет. Люди больше его не хотят. Они разучились видеть красоту.
13
Птица провалилась сквозь паутину ветвей и рухнула в траву. Моросил надоедливый дождь, струился по листьям, шумел вразнобой. Хаыршах пошевелился, но встать не сумел. По лесу медленно ползла сизая, почти прозрачная река. Миллионы крошечных духов стлались по земле, просачивались через широкие деревья, кружились легкомысленно в ветвях. Птицу скрючило от боли. Она содрогнулась и все-таки сумела перевернуться. Кинжал Ашаяти, застрявший в костях крыльев, выпал на землю. Обессиленная давящей болью птица поползла прочь. Черепом вперед продиралась она сквозь сплетения трав и кустов, всё равно куда – лишь бы подальше от этого сизого потока!..
Птица поскользнулась на луже и камнем покатилась по склону, стукнулась о ствол одного дерева, о пенек другого. Хрустнули голые кости, из груди выскочило ребро и потерялось где-то в зарослях. Птица кувыркнулась с обрыва и рухнула на берег взволнованной реки.