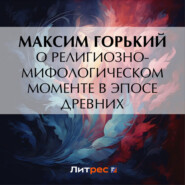По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кто спросит? – отозвался Илья.
– А бог?
Илья снова не ответил ей. Имя божие в её устах породило в нём острое, но неясное, неуловимое словом чувство, и оно противоречило его желанию обнять эту женщину. Матица упёрлась руками в постель, приподняла своё большое тело и подвинула его к стене. Потом она заговорила равнодушно, каким-то деревянным голосом:
– Ела я и всё думала про Перфишкину дочку… Давно я о ней думаю… Живёт она с вами – тобой да Яковом, – не будет ей от того добра, думаю я… Испортите вы девчонку раньше время, и пойдёт она тогда моей дорогой… А моя дорога – поганая и проклятая… не ходят по ней бабы и девки, а, как черви, ползут…
Она помолчала и заговорила снова, разглядывая свои руки, лежавшие на коленях у неё:
– Скоро уже девочка взрастёт. Я спрашивала которых знакомых кухарок и других баб – нет ли места где для девочки? Нет ей места, говорят… Говорят – продай!.. Так ей будет лучше… дадут ей денег и оденут… дадут и квартиру… Это бывает, бывает… Иной богатый, когда он уже станет хилым на тело да поганеньким и уже не любят его бабы даром… то вот такой мерзюга покупает себе девочку… Может, это и хорошо ей… а всё же противно должно быть сначала… Лучше бы без этого… Лучше уж жить ей голодной, да чистой, чем…
Она закашлялась, точно поперхнувшись каким-то словом, но тем же равнодушным голосом докончила:
– Чем и поганой и голодной…
Ветер всё летал по чердаку, дерзко торкался в дверь.
Равнодушный голос женщины и её тяжёлая, неподвижная фигура не позволяли чувству Ильи развиться и внушить юноше храбрость, необходимую для выражения его желания. Матица как бы отталкивала его всё дальше, он замечал это и раздражался против неё…
– Боже, боже мой! – тихонько вздохнув, сказала женщина. – Святая мати!..
Илья сердито двинулся на стуле и угрюмым голосом заговорил:
– Называешь себя поганой, а сама всё – бог, бог! Думаешь, ему это нужно от тебя?
Матица взглянула на него, помолчала и качнула головой.
– Не понимаю твоей речи…
– Понимать тут нечего! – продолжал Илья, встав со стула. – Блудите, блудите – а потом бог! Коли бог – так не блуди…
– Ой! – беспокойно воскликнула женщина. – Что это? Кто же будет о боге помнить, как не грешные?
– Уж я не знаю – кто! – молвил Илья, чувствуя прилив неукротимого желания обидеть эту женщину и всех людей. – Знаю, что не вам о нём говорить, да! Не вам! Вы им только друг от друга прикрываетесь… Не маленький… вижу я. Все ноют, жалуются… а зачем пакостничают? Зачем друг друга обманывают, грабят?.. Согрешит, да и за угол! Господи, помилуй! Понимаю я… обманщики, черти! И сами себя и бога обманываете!..
Матица смотрела на него молча, открыв рот и вытянув шею, в глазах её было тупое удивление. Илья подошёл к двери, резким движением сорвал крючок и вышел вон, сильно хлопнув. Он чувствовал, что жестоко обидел Матицу, и это было приятно ему, и на сердце стало легче и в голове ясней. Спускаясь с лестницы твёрдыми шагами, он свистал сквозь зубы, а злоба всё подсказывала ему обидные, крепкие, камням подобные слова. Казалось ему, что все эти слова раскалены, освещают тьму внутри его и показывают ему дорогу в сторону от людей. Уже он говорил свои слова не одной Матице, а и дяде Терентию, Петрухе, купцу Строганому – всем людям.
«Так-то вот! – выйдя на двор, думал он. – Нечего с вами церемониться, – сволочь!..»
Вскоре после посещения Матицы Илья начал ходить к женщинам. Первый раз это случилось так: однажды вечером он шёл домой, а какая-то женщина и сказала ему:
– Пойдём?
Он взглянул на неё и молча пошёл рядом с нею. Но идя, он наклонил голову и всё оглядывался кругом, боясь встретить знакомого. Через несколько шагов женщина ещё сказала предупреждающим голосом:
– Смотри – целковый.
– Ладно! – сказал Илья. – Идём скорее…
И вплоть до квартиры женщины они шли молча. Вот и всё…
Но знакомство с женщинами сразу повело к большим расходам, и всё чаще Илья думал о том, что его торговля – пустая трата времени, не даст она ему возможности устроить чистую жизнь. Одно время он хотел, по примеру других разносчиков, заняться лотереей и обманывать публику, как все разносчики. Но, подумав, нашёл эту затею мелкой и хлопотливой. Пришлось бы прятаться от городовых или заискивать у них и платить им, – это было противно Илье. Он любил смотреть всем в глаза прямо и смело и чувствовал острое удовольствие оттого, что всегда был одет опрятнее других разносчиков, не пил водки и не жульничал. Ходил он по улицам не торопясь, степенно, его скуластое лицо было сухо и серьёзно; разговаривая, он прищуривал свои тёмные глаза, говорил немного, обдуманно. Часто он мечтал о том, как хорошо было бы найти денег рублей тысячу или больше. Рассказы о кражах возбуждали в нём жгучий интерес: он покупал газету, внимательно читал о подробностях кражи и долго потом следил, – нашли воров или нет? А когда их находили, Илья сердился и осуждал их, говоря Якову:
– Попались, болваны!.. Уж не брались бы, коли не умеют, – черти!
Как-то вечером он сказал Якову:
– Жулики лучше живут, честные – хуже!
Лицо Якова напряглось, глаза прищурились, и он сказал тем пониженным, таинственным голосом, которым всегда говорил о мудрых вещах:
– Позапрошлый раз в трактире дядя твой чай пил с каким-то старичком, – начётчиком, должно быть. Старичок говорил, будто в библии сказано: «покойны дома у грабителей и безопасны у раздражающих бога, которые как бы бога носят на руках своих…»
– А – не врёшь ты? – спросил Илья, внимательно прослушав товарища.
– Не мои слова… – разводя руками, словно нащупывая что-то в воздухе, продолжал Яков. – В библии сказано… может, он и сам выдумал, старичишка-то… Переспросил я его… повторяет в одно слово…
И, наклоняясь к Илье, он сказал:
– Взять, к примеру, отца моего… Покоен! А бога раздражает…
– Ещё как! – воскликнул Илья.
– В гласные его выбрали…
Яков опустил голову, тяжело вздохнул и добавил:
– Надо бы, чтобы каждое человеческое дело перед совестью кругло было, как яичко, а тут… Тошно мне… Ничего не понимаю… Сноровки к жизни у меня нету, приверженности к трактиру я не чувствую… А отец – всё долбит… «Будет, говорит, тебе шематонить, возьмись за ум, – дело делай!» Какое? Торгую я за буфетом, когда Терентия нет… Противно мне, но я терплю… А от себя что-нибудь делать – не могу…
– Надо учиться! – солидно сказал Илья.
– Трудно жить… – тихо молвил Яков.
– Трудно? Тебе? Врёшь ты! – вскричал Илья, вскочив с кровати и подходя к товарищу, сидевшему под окном. – Мне – трудно, да! Ты – что? Отец состарится – хозяин будешь… А я? Иду по улице, в магазинах вижу брюки, жилетки… часы и всё такое… Мне таких брюк не носить… таких часов не иметь, – понял? А мне – хочется… Я хочу, чтобы меня уважали… Чем я хуже других? Я – лучше! А жулики предо мной кичатся, их в гласные выбирают! Они дома имеют, трактиры… Почему жулику счастье, а мне нет его? Я тоже хочу…
Яков поглядел на товарища и вдруг тихо, но внятно сказал:
– Не дай бог тебе удачи!
– Что? Почему? – вскричал Илья, остановившись среди комнаты и возбуждённо глядя на Якова.
– Жаден ты, – ничем тебя не успокоишь, – объяснил тот.
Илья засмеялся сухо и со злобой.
– Не успокоишь? Ты скажи-ка отцу своему, чтоб он дал мне хоть половину тех денег, что у дедушки Еремея вместе с моим дядей они выкрали, – я и успокоюсь, – да!
Но тут Яков встал со стула и, опустив голову, тихо пошёл к двери. Илья видел, что плечи у него вздрагивают и шея так согнута, точно Якова больно ударили по ней.