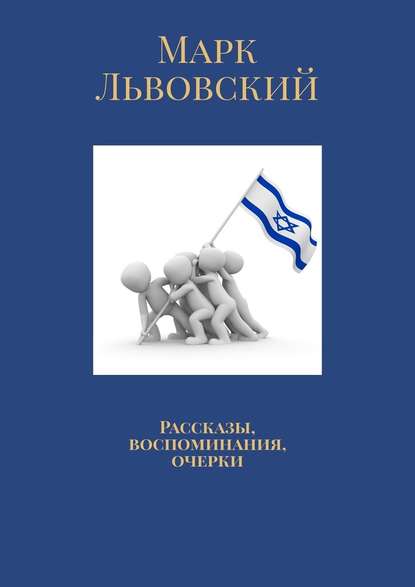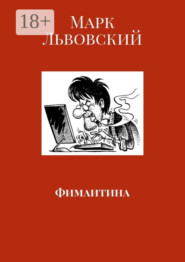По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы, воспоминания, очерки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты сейчас никуда не устроишься.
– Уборщицей возьмут.
– Из тебя уборщица, как из меня гимнаст.
– Не беспокойтесь. Научусь. Войну прошла.
– Я заберу тебя из этого класса. Пойдешь к пятиклассникам на «древнюю».
– А в древней истории он тоже самый главный.
– Ты можешь чуть потише?
– Дайте мне написать заявление!
– Иди домой и успокойся. Или всё это пройдет, как дым, или вы все обречены. Не лезь в петлю раньше времени. Это истерика. Заболей, в конце концов.
– Степан Ильич, – она заговорила шепотом, – я не хочу больше учительствовать. Я вернусь в школу, когда его не станет. И это случится очень скоро! – последние слова она произнесла, склонившись к лицу директора. – Прощайте, самый хороший в мире директор!
И неожиданно для самой себя, перегнувшись через директорский стол, горячими ладошками обхватила его голову и поворачивая ее то в одну, то в другую сторону, поцеловала в обе щеки, а потом и в губы.
Стоявшая, она была ростом точно с сидящим Степаном Ильичом. Ах, было в нем что-то от Дорохова! Было…
Закончив таким эффектным манером сцену, Эсфирь Львовна направилась к двери, но вдруг обернулась и заявила:
– Степан Ильич, а заявление об увольнении я пришлю вам по почте! Не будем более портить столь роскошную пепельницу!
Быть дочерью актрисы, пусть и второстепенной, ко многому обязывало.
А директор долго еще чувствовал на своих губах вкус номады и долго, в великой тоске, возился с пепельницей и столом, очищая их от пепла.
3
Ах, какое же солнце было в тот день – 13 января 1953 года! Что означала эта улыбка небес – преддверие великой весны или полное её равнодушие к происходящему?..
…В зашторенном, черном кабинете, в огромном черном кресле сидел смертельно напуганный недавней болью Сталин, так и не закуривший свою первую утреннюю трубку…
…А на захарканном, заблеванном, окровавленном, холодном бетонном полу тюремныхх камер корчились истерзанные старики профессора; в школах бесновались ученики—патриоты; во многих домах Москвы сновали по нужным квартирам сообразительные домоуправы, сообщая нетерпеливым хозяевам о скором высвобождении соседних еврейских квартир; писатель, имевший несчастье родиться евреем, писал разоблачительную, полную пафоса статью и плакал от презрения к самому себе…
…А солнце в такой треклятый день сияло себе в небесах, мириадами искр отражаясь в тогда еще белом московском снегу.
Как можно было соединить в себе и отчаянную безнадежность, и отчаянную красоту этого дня?
…«Евреи, изумитесь, исколотите меня, закидайте камнями, мне весело! Мне весело, ибо я предчувствую весну! Это такой день, который понять дано только мне! Но разве верят провидцам? А я хочу рассказать вам, евреи, что не воля убийцы породила этот день, а воля Истории. Да! Да! История обладает волей, всесильной волей, порожденной, может быть, самим Божьим замыслом! Так учил меня милый, бесстрашный профессор Дорохов, вечная ему память! И я, сумасшедшая, маленькая, никому не известная еврейка, призвана по воле Истории совершить суд над палачом! Я переполнена ненавистью! Ничего не боюсь! Я такая счастливая в такой страшный день!.. Мне ясно, мне совершенно ясно, что Сталину не нужны врачи, виновные разве в том, что лечили его и его банду, – ему нужно уничтожить всех евреев империи! Вот на что замахнулся параноик! И вот что погубит его, как погубило Гитлера!»
Ей было ослепительно ясно, что это последняя судорога изувера.
Ей было ослепительно ясно, что она спасительница своего народа.
Ей было ослепительно ясно, что она сошла с ума, но почему—то от мысли этой становилось необыкновенно весело.
Улицу Горького она признавала только от Пушкинской площади с её любимым кинотеатром «Центральный» до площади Маяковского с её любимым Залом им. Чайковского. Этот привычный, всегда волнующий её маршрут она называла «прогулкой в себя». И когда от своего дома, расположенного на улице Чехова, она добиралась до памятника Пушкину, чтобы начать прогулку, то всегда останавливалась, здоровалась с поэтом, потом зажигала папиросу, делала первую глубокую затяжку, поправляла прическу и начинала шествие. Никакая толпа не мешала ей, наоборот, толкаясь, протискиваясь, она после одиночества школьных часов чувствовала себя вовлеченной в жизнь, равной другим и, самое главное, не врущей скучающим детям. А уж сегодняшняя прогулка была совершенно особенной, и угнетало её только то, что она не может поделиться своей великой тайной с многочисленными прохожими.
Она ожидала музыки, непременно Баха. Она ожидала еще людей, вовлеченных в круг, избранных Историей. О, она бы узнала их по глазам, по особенно счастливым улыбкам, по какимнибудь тайным знакам, обращенным только к ней, как главному действующему лицу.
Потом стали приходить мысли попроще… Ладно, с деньгами на первое время поможет дядя Зяма… О, Господи, сегодня же день его рождения! Надо купить подарок!.. На месяц—другой уеду в АлмаАту, к тете Фане. Два месяца, надеюсь, хватит, чтобы подохнуть этой сволочи? Значит, всё в порядке! Всё отлично!
И когда вполне различимы стали черты площади имени Маяковского, она подпрыгнула от восторга. Ее зимние, стертые ботиночки даже с некоторым изяществом оторвались от земли, краткое мгновение пробыли в воздухе, а вот приземлились крайне неудачно: правый резко скользнул по припорошенному снежком льду вперед, левый же поехал назад и заставил Эсфирь Львовну всем телом упасть на тотчас хрустнувшее, еще с войны испорченное осколком левое колено.
И от боли, яростно пронзившей её, потеряла сознание.
Толпа собралась мгновенно и так как нелепо распластанное на снегу тело не подавало признаков жизни, страшно разволновалась. Посыпались советы, примчался, просверлив воздух оглушительной трелью свистка, милиционер, быстро всё понял и убежал звонить в «Скорую помощь».
Очнувшись, она стала безучастно наблюдать за суетой. Ноющая боль в колене подкатывала к сердцу, шерстяной чулок промок, юбка задралась, прическа рассылалась, а на кокетливую котиковую шапочку – подарок дяди Зямы – успели основательно наступить, превратив её в мертвое тельце какого—то маленького несчастного животного…
Кто—то предложил перенести ее в подъезд дома. Двое мужчин подошли, наклонились, обсуждая, как удобнее взяться за дело, но она, собравшись с силами, так рявкнула на них, что бедняги в смущении отскочили в сторону.
– Вы же простудитесь!
– Оставьте меня в покое! – глаза её в бешенстве сверкнули.
– Да она сумасшедшая!
– Совершенно верно! Сошла с ума от страха, что лечить её будут её же соплеменники.
– Это же историчка из сто двадцать третьей! Эсфирь!
Голос юного прогульщика был так звонок и искренен, что толпа сразу ему поверила и стала съеживаться от естественного страха оказать в этот опасный день слишком большое внимание еврейке, к тому же странной, но мало похожей на сумасшедшую.
Наконец раздался вой машины «Скорой помощи». Из белого «ЗИС—101» выскочили два крепких санитара, ловко уложили Эсфирь Львовну со всеми разбросанными деталями ее одежды и содержимым раскрытой сумочки на грязносерые носилки, понесли, четко, как по команде, швырнули свой груз в чрево машины, затем и сами нырнули за ним, хлопнули дверьми, и «Скорая», обдав толпу вонючим дымом и оглушив леденящей душу сиреной, умчалась в больницу,
Ее привезли и покатили на носилках с визжащими колесиками по бесконечным коридорам, тоннелям, потом подняли на лифте и снова покатили по трассе людского несчастья, мимо застывших белых патлатых старух, мимо людей, скачущих на костылях, ковыляющих с палками, сидящих на засаленных диванах, читающих или жадно жующих лакомства, доставленные им из дома.
В воспаленном мозгу маленькой учительницы серые эти лица превратились в дикие видения, точь—в—точь как в американском альбоме Босха, подарке дядизяминого друга, художника, уничтоженного за карикатурный, карандашный набросок лица Сталина… Как в кривых зеркалах, то вытягиваясь, то сжимаясь, то наклоняясь над ней, то отшатываясь от нее в ужасе, прыгали, кривлялись лица, то все вдруг похожие на усатого упыря Сталина, то на измученного пытками профессора Дорохова… И не было конца этому коридору чистилища.
А тупая пульсирующая боль докатывала до плеча, клещами сжимала затылок, потом отпускала на короткое мгновение, чтобы снова взяться за палаческое свое дело.
Казавшийся бесконечным коридор, наконец, кончился, ее вкатили в маленькую комнатку и ловко скинули с носилок на стол, покрытый морковного цвета клеенкой, прохладной и влажной. Укол вернул её к сознанию, боли почти не стало, и она, совершенно счастливая от этого, лучезарно улыбнулась склонившейся над ней очкастой физиономии, украшенной длинным, унылым, совершенно еврейским носом. Увидев, что пациентка очнулась, он подмигнул ей, вытер салфеткой её горячий мокрый лоб, нежно убрал с него слипшиеся волосы и спросил:
– Ну, а вы оперироваться у меня не испугаетесь?
– Только у вас, доктор, только у вас, – горячо зашептала она. – Я прошу вас, помогите мне… И я очень надеюсь, что эта усатая сволочь не успеет добраться до нас.
– О чём это вы? О, Господи!.. Милая моя, – взмолился он, – тише, пожалуйста! – он тыльной стороной ладони погладил её щеку. – Не волнуйтесь, я вылечу вас.
И тотчас понизил голос до шёпота:
– Только молчите. Молчите – и всё. Травматическая афазия, понятно? Это – как полная идиотка. Иначе, дорогая, вас заберут отсюда туда, где только один метод лечения от всех болезней. Договорились?
– Уборщицей возьмут.
– Из тебя уборщица, как из меня гимнаст.
– Не беспокойтесь. Научусь. Войну прошла.
– Я заберу тебя из этого класса. Пойдешь к пятиклассникам на «древнюю».
– А в древней истории он тоже самый главный.
– Ты можешь чуть потише?
– Дайте мне написать заявление!
– Иди домой и успокойся. Или всё это пройдет, как дым, или вы все обречены. Не лезь в петлю раньше времени. Это истерика. Заболей, в конце концов.
– Степан Ильич, – она заговорила шепотом, – я не хочу больше учительствовать. Я вернусь в школу, когда его не станет. И это случится очень скоро! – последние слова она произнесла, склонившись к лицу директора. – Прощайте, самый хороший в мире директор!
И неожиданно для самой себя, перегнувшись через директорский стол, горячими ладошками обхватила его голову и поворачивая ее то в одну, то в другую сторону, поцеловала в обе щеки, а потом и в губы.
Стоявшая, она была ростом точно с сидящим Степаном Ильичом. Ах, было в нем что-то от Дорохова! Было…
Закончив таким эффектным манером сцену, Эсфирь Львовна направилась к двери, но вдруг обернулась и заявила:
– Степан Ильич, а заявление об увольнении я пришлю вам по почте! Не будем более портить столь роскошную пепельницу!
Быть дочерью актрисы, пусть и второстепенной, ко многому обязывало.
А директор долго еще чувствовал на своих губах вкус номады и долго, в великой тоске, возился с пепельницей и столом, очищая их от пепла.
3
Ах, какое же солнце было в тот день – 13 января 1953 года! Что означала эта улыбка небес – преддверие великой весны или полное её равнодушие к происходящему?..
…В зашторенном, черном кабинете, в огромном черном кресле сидел смертельно напуганный недавней болью Сталин, так и не закуривший свою первую утреннюю трубку…
…А на захарканном, заблеванном, окровавленном, холодном бетонном полу тюремныхх камер корчились истерзанные старики профессора; в школах бесновались ученики—патриоты; во многих домах Москвы сновали по нужным квартирам сообразительные домоуправы, сообщая нетерпеливым хозяевам о скором высвобождении соседних еврейских квартир; писатель, имевший несчастье родиться евреем, писал разоблачительную, полную пафоса статью и плакал от презрения к самому себе…
…А солнце в такой треклятый день сияло себе в небесах, мириадами искр отражаясь в тогда еще белом московском снегу.
Как можно было соединить в себе и отчаянную безнадежность, и отчаянную красоту этого дня?
…«Евреи, изумитесь, исколотите меня, закидайте камнями, мне весело! Мне весело, ибо я предчувствую весну! Это такой день, который понять дано только мне! Но разве верят провидцам? А я хочу рассказать вам, евреи, что не воля убийцы породила этот день, а воля Истории. Да! Да! История обладает волей, всесильной волей, порожденной, может быть, самим Божьим замыслом! Так учил меня милый, бесстрашный профессор Дорохов, вечная ему память! И я, сумасшедшая, маленькая, никому не известная еврейка, призвана по воле Истории совершить суд над палачом! Я переполнена ненавистью! Ничего не боюсь! Я такая счастливая в такой страшный день!.. Мне ясно, мне совершенно ясно, что Сталину не нужны врачи, виновные разве в том, что лечили его и его банду, – ему нужно уничтожить всех евреев империи! Вот на что замахнулся параноик! И вот что погубит его, как погубило Гитлера!»
Ей было ослепительно ясно, что это последняя судорога изувера.
Ей было ослепительно ясно, что она спасительница своего народа.
Ей было ослепительно ясно, что она сошла с ума, но почему—то от мысли этой становилось необыкновенно весело.
Улицу Горького она признавала только от Пушкинской площади с её любимым кинотеатром «Центральный» до площади Маяковского с её любимым Залом им. Чайковского. Этот привычный, всегда волнующий её маршрут она называла «прогулкой в себя». И когда от своего дома, расположенного на улице Чехова, она добиралась до памятника Пушкину, чтобы начать прогулку, то всегда останавливалась, здоровалась с поэтом, потом зажигала папиросу, делала первую глубокую затяжку, поправляла прическу и начинала шествие. Никакая толпа не мешала ей, наоборот, толкаясь, протискиваясь, она после одиночества школьных часов чувствовала себя вовлеченной в жизнь, равной другим и, самое главное, не врущей скучающим детям. А уж сегодняшняя прогулка была совершенно особенной, и угнетало её только то, что она не может поделиться своей великой тайной с многочисленными прохожими.
Она ожидала музыки, непременно Баха. Она ожидала еще людей, вовлеченных в круг, избранных Историей. О, она бы узнала их по глазам, по особенно счастливым улыбкам, по какимнибудь тайным знакам, обращенным только к ней, как главному действующему лицу.
Потом стали приходить мысли попроще… Ладно, с деньгами на первое время поможет дядя Зяма… О, Господи, сегодня же день его рождения! Надо купить подарок!.. На месяц—другой уеду в АлмаАту, к тете Фане. Два месяца, надеюсь, хватит, чтобы подохнуть этой сволочи? Значит, всё в порядке! Всё отлично!
И когда вполне различимы стали черты площади имени Маяковского, она подпрыгнула от восторга. Ее зимние, стертые ботиночки даже с некоторым изяществом оторвались от земли, краткое мгновение пробыли в воздухе, а вот приземлились крайне неудачно: правый резко скользнул по припорошенному снежком льду вперед, левый же поехал назад и заставил Эсфирь Львовну всем телом упасть на тотчас хрустнувшее, еще с войны испорченное осколком левое колено.
И от боли, яростно пронзившей её, потеряла сознание.
Толпа собралась мгновенно и так как нелепо распластанное на снегу тело не подавало признаков жизни, страшно разволновалась. Посыпались советы, примчался, просверлив воздух оглушительной трелью свистка, милиционер, быстро всё понял и убежал звонить в «Скорую помощь».
Очнувшись, она стала безучастно наблюдать за суетой. Ноющая боль в колене подкатывала к сердцу, шерстяной чулок промок, юбка задралась, прическа рассылалась, а на кокетливую котиковую шапочку – подарок дяди Зямы – успели основательно наступить, превратив её в мертвое тельце какого—то маленького несчастного животного…
Кто—то предложил перенести ее в подъезд дома. Двое мужчин подошли, наклонились, обсуждая, как удобнее взяться за дело, но она, собравшись с силами, так рявкнула на них, что бедняги в смущении отскочили в сторону.
– Вы же простудитесь!
– Оставьте меня в покое! – глаза её в бешенстве сверкнули.
– Да она сумасшедшая!
– Совершенно верно! Сошла с ума от страха, что лечить её будут её же соплеменники.
– Это же историчка из сто двадцать третьей! Эсфирь!
Голос юного прогульщика был так звонок и искренен, что толпа сразу ему поверила и стала съеживаться от естественного страха оказать в этот опасный день слишком большое внимание еврейке, к тому же странной, но мало похожей на сумасшедшую.
Наконец раздался вой машины «Скорой помощи». Из белого «ЗИС—101» выскочили два крепких санитара, ловко уложили Эсфирь Львовну со всеми разбросанными деталями ее одежды и содержимым раскрытой сумочки на грязносерые носилки, понесли, четко, как по команде, швырнули свой груз в чрево машины, затем и сами нырнули за ним, хлопнули дверьми, и «Скорая», обдав толпу вонючим дымом и оглушив леденящей душу сиреной, умчалась в больницу,
Ее привезли и покатили на носилках с визжащими колесиками по бесконечным коридорам, тоннелям, потом подняли на лифте и снова покатили по трассе людского несчастья, мимо застывших белых патлатых старух, мимо людей, скачущих на костылях, ковыляющих с палками, сидящих на засаленных диванах, читающих или жадно жующих лакомства, доставленные им из дома.
В воспаленном мозгу маленькой учительницы серые эти лица превратились в дикие видения, точь—в—точь как в американском альбоме Босха, подарке дядизяминого друга, художника, уничтоженного за карикатурный, карандашный набросок лица Сталина… Как в кривых зеркалах, то вытягиваясь, то сжимаясь, то наклоняясь над ней, то отшатываясь от нее в ужасе, прыгали, кривлялись лица, то все вдруг похожие на усатого упыря Сталина, то на измученного пытками профессора Дорохова… И не было конца этому коридору чистилища.
А тупая пульсирующая боль докатывала до плеча, клещами сжимала затылок, потом отпускала на короткое мгновение, чтобы снова взяться за палаческое свое дело.
Казавшийся бесконечным коридор, наконец, кончился, ее вкатили в маленькую комнатку и ловко скинули с носилок на стол, покрытый морковного цвета клеенкой, прохладной и влажной. Укол вернул её к сознанию, боли почти не стало, и она, совершенно счастливая от этого, лучезарно улыбнулась склонившейся над ней очкастой физиономии, украшенной длинным, унылым, совершенно еврейским носом. Увидев, что пациентка очнулась, он подмигнул ей, вытер салфеткой её горячий мокрый лоб, нежно убрал с него слипшиеся волосы и спросил:
– Ну, а вы оперироваться у меня не испугаетесь?
– Только у вас, доктор, только у вас, – горячо зашептала она. – Я прошу вас, помогите мне… И я очень надеюсь, что эта усатая сволочь не успеет добраться до нас.
– О чём это вы? О, Господи!.. Милая моя, – взмолился он, – тише, пожалуйста! – он тыльной стороной ладони погладил её щеку. – Не волнуйтесь, я вылечу вас.
И тотчас понизил голос до шёпота:
– Только молчите. Молчите – и всё. Травматическая афазия, понятно? Это – как полная идиотка. Иначе, дорогая, вас заберут отсюда туда, где только один метод лечения от всех болезней. Договорились?