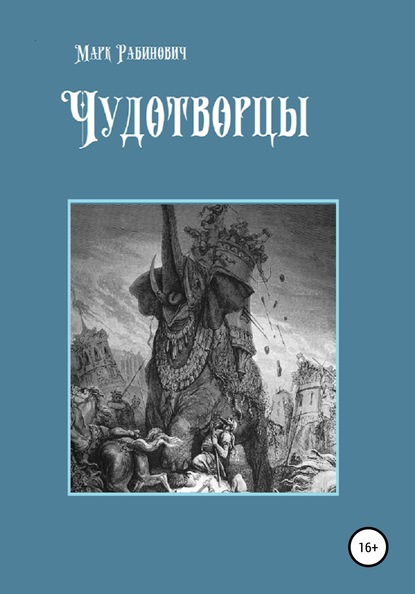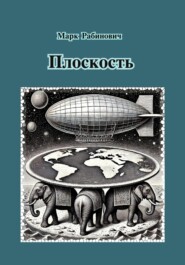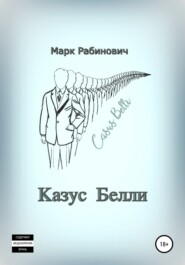По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чудотворцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чей он раб?
– Мой.
Шуламит посмотрела на него с нескрываемым изумлением. Публий тоже много не понимал. Например, он не понимал, что должно произойти через шесть лет. Не понимал он, и что особенного в том, чтобы быть рабом именно Симона. Не все ли равно рабу, кто его хозяин. Впрочем нет, наверное Симон добрый хозяин и по доброму относится к своим рабам. Интересно, сколько их у него? И уж совсем непонятно, как свободная женщина может стать женой раба. Единственное, что было ясно ему, это зачем Симон выдает за него свою племянницу. Все верно, замужество покроет ее позор, а потом можно будет избавиться от ненужного уже мужа и стать женой достойного человека. Как именно от него будут избавляться, Публия не интересовало, ведь он и сам собирался сделать Шуламит вдовой.
– Ну так как же? – требовательно спросил Симон не повышая голоса – Каков будет приговор этому человеку? Легкая смерть или тяжелая жизнь?
– Жизнь… – прошептала девушка и бросилась прочь.
Через мгновение ее развевающиеся одежды исчезли в листве дубов.
– Пойдем – сказал Симон странным голосом.
Он глядел не на него, Публия, а вслед убежавшей девушке и на лице его было выражение беззащитности и неуверенности, таких несвойственных этому странному человеку. Возможно, это лишь показалось Публию, потому что через мгновение лицо его хозяина было по-прежнему загадочным и непроницаемым. Симон посмотрел на него, усмехнулся, покачал головой и повторил знакомое слово:
– Шакран!
Но это почему-то прозвучало не осуждающе, а скорее одобрительно.
В последующие несколько месяцев Публию привыкал к жизни раба. Приходилось терпеть, потому что воспользоваться ножом ему не удавалось: по какому-то странному стечению обстоятельств, все острые предметы хранились под замком или были под присмотром. Отношение иудеев к рабам было странным, и Публий до сих пор с этим не разобрался. Он жил в большом и богатом доме Симона, на окраине Модиина, ел и пил вместе с его семьей и, поначалу, спал в одной комнате с его младшими сыновьями: Иудой и Маттитьяху. Других рабов у Симона не оказалось. Никто не унижал Публия, одежда его была такая же, как и остальных – простая, но подшитая. Хозяйство вела Хайя, жена Симона, которой помогали разные, все время сменяющиеся женщины. Публия не утруждали работой, но и без дела он не сидел. В большом доме всегда находилась занятие для бывшего инженера, который умел и любил работать и с деревом и с камнем и с металлом. Это его совсем не обременяло, даже нравилось, удивительным образом отвлекая от горьких дум. Началась жатва, но до работ в поле его не допустили, зато пришлось поработать в домашней кузнице, поправляя серпы и чиня мотыги. Теперь у него были инструменты, которыми так заманчиво было бы распороть себе кишки, но сын Симона, Иуда, так просил сделать игрушечную баллисту, а он опрометчиво пообещал и не мог обмануть. Мысли о смерти стали отходить куда-то на задний план, вместо этого приходилось думать о том, где взять материалы для ремонта стен, уголь для кузницы и хоть немного кедрового дерева, чтобы сделать игрушечного слона для маленького Маттитьяху. Постепенно у него образовался свой круг обязанностей, и, незаметно, он перестал получать приказания, прекрасно зная сам, что следует делать. Загадочный Симон редко появлялся в своем доме, исчезая по каким-то своим таинственным делам. Однако, все что происходило за стенами дома давно уже перестало интересовать Публия. Ему устраивала эта размеренная, простая жизнь, напоминающая ему отцовский дом в Геркулануме, и даже само рабство казалось-бы перестало его тяготить. Похоже, что иудеи относились к рабам как к бедным родственникам, взятым в дом, чтобы не умерли с голоду на улице.
Но через два месяца все внезапно изменилось в один миг. Пришли Симон, Йонатан и еще какие-то люди, одели его в праздничную одежду и здесь же, во дворе дома, соединили с Шуламит каким-то странным обрядом, смысла которого он не понял и понять не пытался. После этого их отвели в небольшую комнатку в доме, в которой они должны были провести свою первую ночь. Он так и не заглянул ей в глаза во время брачной церемонии, а ведь ему так хотелось снова увидеть эти ее необыкновенные глаза. И все же он робел при при одной мысли о том как впервые коснется той, к которой его, похоже, неудержимо влекло. Светильники не горели, но было полнолунье, и Публий подумал, что луна должна красиво отражаться в ярких глазах женщины, однако луны там не было, да и ее глаза он не увидел – они были закрыты. Он осторожно коснулся рукой ее бедра, но женщина не шевельнулась. Ее прекрасные волосы сейчас лежали мертвой грудой, скрывая линии шеи. Потом она послушно раздвинула ноги и повернула голову на бок, так и не открывая глаз. Когда все кончилось и он поднялся, ему показалось, что Шуламит умерла, но тут она открыла глаза и посмотрела на него в упор. Ничего не было в этих глазах: ни луны, ни гнева, ни страдания… Никогда еще ему не было так страшно, и он подумал что это он умер, переплыл греческий Стикс, сам того не заметив и давно уже обитает в стране мертвых. Ничего он не увидел в глазах женщины, ничего кроме тяжелого, всепроникающего спокойствия. Это были глаза человека отдавшего трудный, грязный и неприятный долг. Наверное, что-то отразилось на его лице, потому что она прошептала:
– Прости меня, я не хотела тебя обидеть.
Но в ее глазах он не увидел раскаяния. Потом она поднялась и отошла в угол. Не сразу понял он, что делает там его молодая жена, а когда понял, то темное отчаяние ворвалось в его сердце… Она не желала от него ребенка.
Больше он до нее не дотрагивался. Они спали в разных углах, а днем он старался не заходить в проклятую комнату чтобы не видеть ее лица. Следовало бы ее возненавидеть, но он ненавидел себя, на большее у него не оставалось сил. Спокойствие, которое он нашел было в доме Симона, куда-то пропало, как и не было его. Осталась лишь пустота в душе и черная, всепоглощающая тоска. Однажды он взял нож, который принесли в кузницу для правки и долго, внимательно смотрел на тусклое лезвие. Нож был совсем тупой, но ведь полоску дешевого железа можно заточить еще раз, а больше одного раза и не понадобится. Он представил, как острое лезвие вспарывает мышцы живота и его кишки выпадают наружу. Немного, совсем немного боли и придет, наконец, покой. Или лучше направить нож в сердце? Крови будет меньше, и меньше придется убирать за тобой этим людям, которые не сделали тебе ничего плохого. Решено – в сердце! Лишь бы не промахнуться.
– Эй, ты! Иди сюда – позвали его со двора.
Он вышел, безучастный и безразличный ко всему.
– Я видел как завороженно ты смотрел на нож – начал неизвестно откуда взявшийся Симон – Ну и как? Хорошо его наточил?
– Не бойся, господин – хмуро ухмыльнулся Публий – Это не для тебя.
– Я знаю – последовал ответ – Это ты для себя стараешься. Так всегда поступают рабы и трусы!
– Трусы? – возмутился Публий – Покончить с этим позором – это по-твоему трусость?
– Разумеется – спокойно ответил тот – Это же самый легкий путь уйти от ответа.
– А если нет другого?
– Значит не нашел другого – отрезал Симон – Либо смелости не хватило, либо ума, либо еще чего-то.
– Так по-твоему и Ликург[13 - Спартанский законодатель, бросился на нож.] был трусом? – спросил удивленный Публий – Да ты хоть слышал про Ликурга?
– Несомненно, он был трусом, потому что спрятался за отговорку вместо того, чтобы сражаться за свои идеалы.
Публий задумался. Не всякий осмелится так говорить о кумире не только Спарты, но и всей Эллады, о человеке, которого считали и считают примером для молодежи. Значит можно думать иначе? Можно жить иначе? Вот только зачем жить?
– Я слышал как ты рассказывал истории моим сыновьям – продолжил Симон – Ты уже хорошо говоришь на нашем языке.
Язык евреев – иврит – действительно давался ему легко. Там часто встречались слова, заимствованные из арамейского и греческого, которыми он владел в совершенстве, да и сам иврит походил на диалект арамейского.
– Вчера ты рассказывал ему про страну Мицраим – продолжил маккавей и, глядя на удивленное лицо Публия, пояснил – Ее обитатели называют ее Та-Кемт, и ты там жил.
– Да, господин – согласился Публий, сообразив, что речь идет о Египте.
– Ты рассказывал, как река Нил разливается летом, в самую жару. А еще ты сказал ему, что это чудо, которое невозможно объяснить.
– Да, я это говорил.
– Не говори так больше.
– Но, почему? – вырвалось у Публия.
Симон уставился на него своим непроницаемым взглядом и некоторое время молчал. Публий решил было, что совершил сейчас большую оплошность. Рабу не следует так разговаривать с господином, и уж точно ему не следует задавать вопросы, не относящиеся к его обязанностям. Впрочем, ему было все равно. Интересно, какое наказание положено у иудеев за дерзость? Наконец, Симон заговорил.
– Настоящее чудо действительно объяснить невозможно – сказал он очень странно глядя на Публия – Но такие чудеса редки, очень редки. А все остальное лишь кажется нам чудом в силу нашего невежества.
– Но ведь настоящие чудеса бывают? – настаивал Публий напрочь забыв о том, кто он и кто перед ним.
– Бывают…
– А ты? Ты видел хотя бы одно?
– Видел… Рождение моего первенца. Несомненно, это было чудо!
Симон смотрел куда-то мимо него, наверное вспоминая рождение сына. Этот разговор был интересен, захватывал, а самое главное – уводил мысли от того, о чем думать уже не хотелось. Потом маккавей ушел, а Публий закончил свою работу – выправил нож. Жить по прежнему не хотелось, но и умирать уже тоже не хотелось. На следующий день Симон еще не уехал. Увидев его во дворе, Публий подошел и решительно спросил:
– Господин, ты знаешь, почему Нил разливается летом?
– Знаю – усмехнулся тот.
– Расскажи мне, господин – осторожно попросил Публий.
Симон задумался на минуту и сказал:
– На закате я уеду. Ты поедешь со мной. В пути мы будет разговаривать.
– Да, господин.
Что-то происходило, но что именно, он не понимал, и просто радовался переменам. А еще ему хотелось уехать подальше от холодных карих глаз, в которых не отражается луна.
– Вот еще что… – продолжил Симон – Мне надоело, что ты называешь меня господином. Отныне, будешь звать меня по имени.