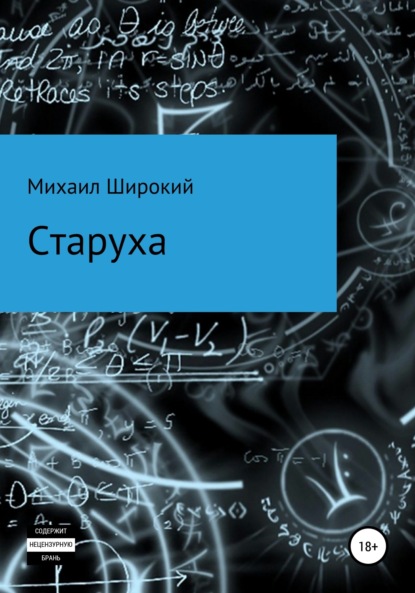По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старуха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тихо! – вдруг оборвал его Миша, уже несколько мгновений с возраставшим беспокойством прислушивавшийся к непроницаемой, как казалось, тишине, царившей наверху.
Димон тут же умолк, и уже они оба услышали какую-то глухую возню, раздававшуюся над их головами. Как будто кто-то перетаскивал, с усилием волоча по полу, что-то тяжёлое и грузное. И остановилось это что-то аккурат над крышкой погреба, придавив её своей массой и окончательно отгородив узников от поверхности земли и лишив их всякой надежды выбраться наружу.
Но не это было самым страшным. Оторопели и окаменели от ужаса приятели, когда сверху до них донеслись до боли знакомые им частое нечленораздельное бормотанье и хриплый, дребезжащий смешок, через мгновение-другое заглохшие вдали.
XVI
Приятели посмотрели друг на друга. На обоих не было лица. Они всё поняли. Достигшие их слуха едва уловимые отзвуки старухиного голоса и её же язвительный смешок мгновенно всё им разъяснили. Это была не глупая шутка расшалившегося Макса, которого они поспешили обвинить и которому Димон сгоряча грозил ужасными карами. Всё оказалось гораздо серьёзнее и страшнее. Преследовавшие их таинственные нездешние силы заманили их наконец в ловушку, из которой им, похоже, было уже не вырваться. Всё то невероятное и непостижимое, что творилось с ними в последние дни, судя по всему, пришло к своему закономерному и неизбежному итогу, которого рано или поздно следовало ожидать. Ждать пришлось не слишком долго. Тот решительный и сокрушительный удар, в неотвратимости которого у друзей не было особых сомнений, обрушился на них внезапно и резко, когда они меньше всего этого ждали. Повергнув их в первые секунды, когда до них дошёл смысл совершившегося, в состояние глубокого шока.
Димон медленно, еле переставляя вдруг отяжелевшие ноги, спустился по лестнице и бессильно уронил своё также как будто погрузневшее тело на нижнюю ступеньку. Положив фонарь на пол, согнул спину и уныло повесил голову.
– Ну вот, кажется, и всё, – еле выговорил он тусклым, безжизненным голосом. Затем искоса поглядел на друга: – Ну, что скажешь?
Миша не проронил ни звука. Ему нечего было сказать. Всё было предельно ясно и без слов и не нуждалось в комментариях. Ясно как день, света которого они уже не имели возможности увидеть. Он затмился для них навсегда. С ними произошло самое жуткое, что только может произойти с человеком, то, от одной мысли о чём спирает дыхание и замирает сердце в груди. Они похоронены заживо! Замурованы, погребены в тесной, пропахшей сыростью и прелью яме, из которой им не выбраться никогда и ни за что. Тот, кто заключил их сюда, позаботился о том, чтобы они остались тут навеки. И чтобы ни одна живая душа не узнала о том, что они здесь, и не пришла к ним на помощь. Всё было отлично продумано, подстроено и осуществлено. Они были обречены на долгое, мучительное умирание от удушья в маленьком, наполненном кромешным мраком подземелье.
Последняя мысль – самая главная теперь для них – пришла им в голову почти одновременно. Миша нервно дёрнул плечом, втянул носом застывший вокруг затхлый, гниловатый воздух и полуобернулся к напарнику.
– Как думаешь, на сколько нам хватит воздуха?
Димон вяло мотнул головой.
– На несколько часов, не больше… Вход закупорен надёжно, тут можно не сомневаться. Других отверстий, отдушин нету. Так что используем тот кислород, что есть здесь, – а его тут явно не очень много, – и н-начнём… умирать… – заключительные слова он произнёс упавшим, прерывистым, чуть слышным голосом, как если бы уже ощутил недостаток воздуха и первые признаки удушья.
Миша после этих его слов, вероятно, почувствовал то же самое. Потянув ноздрями разлитый кругом густой, пропахший землёй воздух, он болезненно скривился и, словно поражённый внезапным изнеможением, опустился прямо на сырой цементный пол и сжал голову руками. Ему показалось, что он в могиле. Погребён заживо. Загнан страшной неведомой силой, неизвестно за что и почему ополчившейся на них, в глухое, отрезанное от всего мира подполье, откуда ему уже не выйти. Он не увидит больше солнечного света, не вдохнёт свежего воздуха. До самого последнего мгновения его жизни, которой осталось уже совсем немножко, перед глазами у него будет непроницаемая, неподвижная чёрная пелена, на фоне которой лишь время от времени возникали неясные, размытые картины и образы – слабые, замиравшие отблески его затухавшего сознания, смутные воспоминания о былом и пережитом. А в ушах будет стоять немая, беспредельная, звенящая тишина, какая бывает только в могиле, в царстве мёртвых, где некому нарушать её, где может быть только вечное, абсолютное безмолвие, равного которому нет.
И единственное, что будет хоть немного оживлять и скрашивать финальные секунды его жизни, отдаваясь при этом в сердце острой, ноющей болью, – это память о том, что в ней было. Далёком и близком, хорошем и плохом, радостном и печальном. Хотя, скорее всего, он не станет вспоминать о плохом и грустном. Ведь хорошего и приятного было неизмеримо больше. А всё скверное и невесёлое, что было в его жизни, казалось ему теперь, когда эта самая жизнь была на исходе, таким незначительным, несущественным, ничтожным. Все его невзгоды, неурядицы, горести и проблемы, представлявшиеся ему некогда такими важными, серьёзными, порой неразрешимыми, бывшие источником стольких волнений, переживаний и тревог, сейчас вызывали у него лишь мягкую, снисходительную усмешку. В преддверии смерти, ледяное дыхание которой он уже явственно ощущал на своём лице, все его прошлые неприятности и затруднения стали казаться ему невинной детской игрой, в которую он невольно заигрался и сам не заметил, как очутился у края пропасти…
– Э-э нет, я так легко не сдамся! – донёсся до него из темноты хрипловатый, отрывистый, с истерическими нотками Димонов голос. – Уморить меня в моём собственном погребе вам не удастся. Этот номер у вас, кто б вы там ни были, не пройдёт. Хрена лысого!
С этими словами Димон, как ужаленный, вскочил со своего места, быстро взобрался по лестнице и принялся неистово, напрягая все силы, ломиться в запертую крышку погреба. Стучал кулаками, упирался в неё попеременно то ладонями, то плечами, то всей верхней частью спины, шеей и затылком.
Результат был равен нулю. Крышка даже не шелохнулась. Словно была не из дерева, а из чугуна. И даже Димону, как ни был он в этот момент взбудоражен, стало ясно, что сверху на неё навалена такая тяжесть, сдвинуть которую не в его, а возможно, вообще ни в чьих силах.
Его возбуждение спало. Так же резко, как и возникло. Будто внезапно обессилев, он застыл на верху лестницы, тяжело дыша и невнятно бормоча что-то. Потом, еле двигая вдруг онемевшими конечностями, спустился вниз и сел на прежнее место, на нижнюю ступеньку лестницы. Поставил локти на колени и уронил голову на ладони. Ероша волосы и незряче уставившись в тёмную пустоту, принялся чуть раскачиваться из стороны в сторону, тоскливо, задыхающимся голосом приговаривая:
– Хос-споди… что ж это такое творится?.. Как же это так вышло?.. Что же делать?.. Что делать?..
Миша, слушая эти жалобные причитания товарища, мрачнел всё больше. Если уж его друг, обычно такой сдержанный, уравновешенный, волевой, даже в самых сложных и опасных переделках, в которых они нередко оказывались, не терявший присутствия духа и хладнокровия и умевший находить выход из самых трудных ситуаций, пал духом и отчаялся, значит всё действительно очень плохо. Миша, разумеется, и так знал это, но поведение приятеля подчеркнуло это с особенной очевидностью, подействовало на него удручающе и ещё раз убедило в том, что их положение, по-видимому, совершенно безнадёжно.
– Может, о нас всё-таки вспомнят? Хоть кто-нибудь, – вымолвил он, сам не очень-то веря в то, что говорил.
Ещё меньше верил в это Димон. С той стороны, где он сидел, донёсся дробный мятый смешок.
– Вспомнят? Как же, держи карман шире. Не для того нас сюда заманили и заперли тут, чтобы…
Он не договорил. То ли сбился с мысли, то ли не смог продолжать из-за охватившего его вдруг волнения. Или, может быть, гнетущей предсмертной тоски, захлестнувшей его именно сейчас, когда он в полной мере осознал весь ужас их положения. После минутного тягостного молчания раздался его заунывный, надорванный голос, ронявший слова как тяжёлые камни:
– Как же глупо всё получилось… глупо и нелепо… Не думал, что так жизнь придётся закончить… – И, помолчав ещё чуть-чуть, проговорил немного другим тоном, будто продолжая давешний разговор: – Да, ты, наверно, прав. Дурака мы сваляли тогда, попёршись к ней в гости… Вернее, я свалял. Признаю… Вот уж не думал… даже в голову не могло прийти, что так всё обернётся… Но прошлого не воротишь, – его голос стал холодным и отчуждённым – он менялся в зависимости от извивов смятенной Димоновой мысли. – И ничего не исправишь. Всё случилось так, как случилось. И, вероятно, по-другому и быть не могло… Видишь, я стал фаталистом!
Он опять разразился натужным, ненатуральным смехом, быстро, впрочем, увядшим. И снова затих. И лишь спустя какое-то время, когда Миша уже начал думать, что приятель умолк окончательно, из темноты послышался его слабый, придушенный голос:
– Проехать бы ещё хоть раз на велике… Пронестись с горы на всей скорости, без тормозов… И чтоб ветер в лицо… Тогда, может, и умирать было б не так страшно. А так… – он вновь не закончил фразы и лишь глухо простонал.
Слова напарника навели Мишу на похожие мысли. А чего бы он хотел в эти последние минуты своей жизни? И долго он не думал. Ответ явился почти сразу же, сам собой. Конечно же, увидеть её, Ариадну! Очень уж много он думал о ней, порой даже не замечая этого и не придавая этому особого значения. Слишком прочно она вошла в его мысли и чувства, заняв в них господствующее положение и ни с кем не желая делиться своей властью над ними. Как-то незаметно она стала едва ли не главным и самым важным человеком в его жизни, потеснив всех остальных дорогих ему людей и выйдя на первый план. И забавнее всего было то, что сама она даже не знала об этом. О том, как много значила для него, какую роль играла в его жизни. В лучшем случае догадывалась. Да и то вряд ли. Ведь она не любила его, он был неинтересен ей. А значит, и чувства его были ей безразличны. Они так и остались один для другого чужими людьми, не имеющими друг с другом ничего общего. Встретились, пообщались и разошлись. Только для неё эта встреча ничего не значила и не оставила ни малейшего следа в её сердце. Его же сердце она разбила вдребезги, сразила его наповал, перевернула его жизнь раз и навсегда. И даже теперь, на исходе этой самой жизни, по-прежнему не даёт ему покоя. И он в эти жуткие предсмертные мгновения, уже ощущая недостаток воздуха и чувствуя, как на его лбу и лице выступает холодный пот, всё равно думает о ней. Только о ней. Ни о ком другом…
Впрочем, мысли эти были всё менее чёткими, стройными, последовательными. Чем дальше, тем больше они путались, мешались, толпясь в его воспалённом мозгу плотной беспорядочной гурьбой. И образ Ариадны, наверное, в последний раз вспыхнувший перед ним яркой сияющей звездой, начал мутнеть, расплываться, меркнуть, заволакиваясь колышущейся серой дымкой, неумолимо стиравшей её черты, не давая ему напоследок насмотреться на них. А вскоре и скрывшая её облик пелена рассеялась, поглощённая непроглядной, чёрной, как беззвёздная ночь, тьмой, неподвижной и вязкой, как дёготь. И он понял, что это. Это была смерть! Беспредельная, безликая, бесстрастная. Обволакивавшая его мягкими незримыми путами, заключавшая в свои нежные объятия, ласково, как мать, баюкавшая и усыплявшая. До тех пор, пока лёгкая дремота не превращалась в крепкий глубокий сон. Оказывавшийся вечным.
И он понимал это. Как ни странно, довольно отчётливо. Мысль о смерти была последней явственной и сознательной его мыслью, лишённой посторонних наслоений. И, опять-таки как ни странно, она больше не пугала его. Не повергала его в столь естественный для человека дремучий, первобытный ужас перед неизведанным и непоправимым, перед дорогой в никуда, откуда нет, не может быть возврата. Он смирился с неизбежностью, покорился, обмяк. Мимолётное воспоминание об Ариадне было последним, что связывало его с жизнью. Оно рассеялось, потухло, как догоревшая свеча, и его гаснущее сознание до краёв затопила безбрежная могильная тьма, подобно чёрной дыре пожирающая всё живое без остатка.
И уже будто сквозь сон или откуда-то издалека до него донеслась какая-то возня, выкрики, стуки. Пробуждённый ими, он приподнял отяжелевшие веки и различил впотьмах смутную изломанную фигуру, что-то делавшую на верху лестницы, под потолком. Он понял, что это Димон, очевидно в заключительном отчаянном порыве, ринулся на штурм намертво запертой крышки погреба, преградившей им путь к жизни. Результат был предсказуем: поколотив в незыблемую, как крепостная стена, крышку уже не очень крепкими кулаками, а затем другими частями тела, накричавшись до хрипоты, он, не удержавшись на лестнице, оступился и покатился вниз, пересчитав все ступеньки. Рухнул на пол и затих. Если бы не вырывавшееся из его стеснённой груди неровное, прерывистое дыхание и раздававшиеся время от времени тихие жалобные стоны, можно было бы подумать, что он уже при смерти.
Впрочем, Мише было всё равно. Жив его товарищ или нет, какое это уже имело значение? Его, в принципе, слабо волновало даже то, жив ли ещё он сам. Тем более что он уже не мог дать утвердительный ответ на этот вопрос – его одолевали всё более серьёзные сомнения по этому поводу. Поднимавшийся от ледяного сырого пола и пронизывавший его насквозь холод и затхлый неживой воздух, который он всё с большими усилиями, как будто урывками, вдыхал, вроде бы свидетельствовали о том, что он ещё не отошёл в мир иной. Но в то же время всё более сгущавшаяся вокруг него, наплывавшая на него всё новыми волнами, казалось, проникавшая в него, заполнявшая его беспросветная смоляная тьма говорила об обратном. О том, что если он и жив пока, то это ненадолго. Смерть уже распахнула перед ним свои широкие врата, в которые войдут все, без разбора. Всем хватит места, никому не будет отказа. А минутой раньше, минутой позже произойдёт это – какая разница? Что значат наши минуты, часы, дни в сравнении с вечностью? Что значит вся человеческая жизнь, с её тревогами, суматохой, шумом, нескончаемым бессмысленным движением и суетой, волнообразно сменяющими друг друга радостями и печалями, победами и поражениями, удачами и провалами, рядом с холодным, безмятежным, бездонным спокойствием смерти, умиряющей, равняющей, стирающей всё и вся? Итог один. Один для всех. Неминуемый, неотвратимый, неумолимый…
– Алё, дружбан, очнись! – неожиданно ворвался в его замогильные думы, разогнав и рассеяв их, как стаю воронья, взволнованный, прерывающийся голос. И одновременно обступившую его, словно въевшуюся в него темень разорвал яркий белесый свет, больно ударив его по глазам, уже привыкшим к кромешному мраку.
Миша вздрогнул, приподнялся с пола, на котором он свернулся калачиком, и очумело уставился на бившее ему в лицо мощное ровное сияние. Уж не этот ли свет видят все умершие, отправляясь в долгий, не имеющий конца путь? – мелькнула у него в голове первая мысль, показавшаяся ему в этот момент наиболее правдоподобной.
Но продолжавший звучать рядом с ним возбуждённый, срывающийся голос, совсем не похожий на пение ангелов, понемногу возвратил его с небес, куда он явно раньше времени вздумал воспарить, на землю. Или, вернее, в неглубокое душное подземелье, где они по-прежнему пребывали взаперти, без особых надежд вырваться наружу.
– Ну давай же, просыпайся! – не переставал взывать к нему хриплый, захлёбывающийся голос, сопровождавшийся мельтешившим перед его неосмысленным, невидящим взором светом. – Нашёл время валяться! Рановато ты лапки поднял – мы ещё повоюем.
С кем собирался воевать Димон – частично опомнившийся Миша признал наконец в говорившем напарника – в запертом погребе, где были только они двое, Миша не знал. Он менее всего расположен был сейчас даже к малейшим умственным усилиям. Он ничего не соображал. Он походил на лунатика, резко выведенного из своего странного оцепенения и с огромным трудом возвращающегося к действительности.
Димон постарался ускорить этот процесс. Он схватил друга за плечо и сильно затряс его, точно пытаясь стряхнуть начавшую овладевать им омертвелость, грозившую обратиться в смертный сон.
– Да очухаешься ты, мать твою! – орал он при этом как оглашенный, так что у Миши зазвонило от его воплей в ушах. – Хватит тупить! Нам каждая секунда дорога.
Но понадобилась ещё минута или две, прежде чем Миша более-менее пришёл в себя и взглянул на товарища осмысленным взором. Тот, заметив это, прекратил тормошить его, отвёл свет фонаря чуть в сторону и, приблизив лицо к лицу приятеля, гораздо тише и спокойнее проговорил:
– Ну наконец-то! Живой, слава богу. А то я уж подумал…
Миша, глаза которого, привыкшие к густой тьме, никак не могли освоиться с сиянием фонаря, казавшимся ему ослепительным, болезненно морщился и загораживал их рукой. А затем, в очередной раз судорожно глотнув тяжёлый, непригодный для дыхания воздух, в котором уже почти не осталось кислорода, с усилием выдавил:
– Толку-то… Всё равно нам недолго осталось… Зря ты меня растолкал. Мне было уже почти хорошо…
– Тихо! – прикрикнул на него Димон и крепко стиснул его плечо, как если бы в нём неведомо откуда обнаружилась недюжинная сила. И, понизив голос, прошептал: – Слушай!
Миша, невольно, а точнее, безвольно повинуясь другу, прислушался. И поначалу ничего не уловил: в ушах его всё ещё стоял звон, рождённый недавними криками Димона, слишком резко разорвавшими царившую до этого в погребе абсолютную тишину. Но постепенно звон утих, и во вновь наступившем глубоком безмолвии Миша довольно чётко различил приглушённое шуршание и сливавшееся с ним тонкое попискивание.
– Что это? – по-прежнему плохо соображая, вымолвил он, удивлённо взглянув на товарища.
Тот выразительно вскинул бровь.
– Мышь. Или крыса… Кажись, где-то там, – он кивнул на дальний угол помещения, где за дощатой загородкой была свалена картошка, и направил туда свет фонаря.
Миша, как и прежде недоумевая, обратил туда же потерянный, непонимающий взгляд. И так же растерянно протянул:
– И что-о?.. Что нам это даёт?