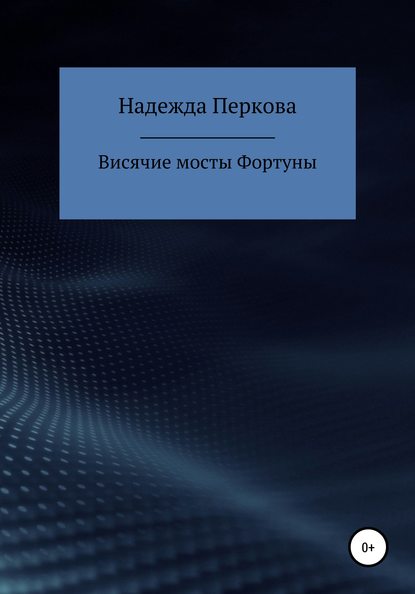По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Висячие мосты Фортуны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Читать тихие нотации было для Смецкого чем-то вроде лакомства: вот мёдом его не корми, а дай вволю побрюзжать над чьей-нибудь неопытной душой, при этом он старался выбрать самую безответную девичью душу. Как правило, это была Светочка, преподаватель химии, терпеливая и старательная девочка, – он изводил её своим занудством… Застукав его за сеансом ласкового садизма, я сразу старалась пресечь эту постыдную старческую распущенность. Как ни странно, в этом случае он мне никогда не прекословил и сразу, недовольно кряхтя, по-медвежьи загребая ногами, уносил своё громоздкое тело из учительской… Вскоре, чувствуя мою поддержку, Света и сама научилась давать отпор директорским придиркам.
Моя антиадминистраторская тактика огорчала Василия Матвеевича, он приглашал меня в свой кабинет для беседы. Кабинет у него был шикарный, огромный, с добротной мебелью тёмной полировки. С директорского места, отделённый широким столом, он обвинял меня в подрыве его авторитета, говорил, что мы должны действовать согласованно, так сказать, быть в одной упряжке, и ставил в пример прежнего завуча. Чувствуя, что это именно тот случай, когда «в телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», он всё же предпринимал последнюю попытку заставить меня войти в его положение.
-– Вот вы мне перечите во всём, Надежда, а сами не знаете, сколько мне жить осталось. Может, я скоро умру. У меня печень… Хотите, покажу свой язык?
Неуверенно пожав плечами, я всё же надеялась, что как-нибудь обойдётся без показа – нет, высунул. Как я и предполагала, язык был толстый.
-– Что, каков?
-– Белый, Василий Матвеевич.
-– Белый? А утром, когда я просыпаюсь, он покрыт коричневой слизью… Печень…
О, мой бог! «Коричневой слизью»… Кошмар! Зачем он это сказал?! Теперь буду представлять себе утренний язык Смецкого…
Я пообещала по возможности не выбиваться из общей упряжки и дуть с ним в одну дуду. Да, собственно, по-другому было и невозможно: нас связывала одна общая тайна, зловещее имя которой было «мёртвые души». Мы, как и незабвенный Павел Иванович Чичиков, имели дело с «мёртвыми душами» (тот, кто работал Школе рабочей молодёжи, меня поймёт). В ШРМ многое зависит от количества учеников – ставки, часы, зарплата – чем больше учеников, тем больше ставок, выше зарплата.
У нас не было права заставлять учеников ходить в школу, и многие из них переставали посещать занятия, но по «ревизской сказке» какое-то время, иногда довольно длительное, числились как «живые». Дамоклов меч внезапной проверки всегда висел над нашей головой – вот почему нам с директором нужно было дуть в одну дуду и тащить воз в одну сторону, чтобы не вызвать подозрения у проверяющих…
В свой кабинет я никогда никого не вызывала – дверь в него вела прямо из учительской и всегда была нараспашку. Кабинет был огромный и тёмный – я его не любила и сидела там только тогда, когда составляла расписание, а его приходилось перестраивать почти ежедневно в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами. Меня эта игра в пятнашки поначалу очень увлекала, я научилась быстро и качественно менять расклад – обычно все оставались довольны моим расписанием: в нём не было «окон» – прежняя завуч, хоть и была математичкой, а «окнами» грешила постоянно.
Надо сказать, что в нашей школе кабинетов хватало на всех, даже у техничек был свой кабинет – узкая, длинная комната рядом с учительской, где на сдвинутых ученических столах стояли, блестя чистым стеклом, керосиновые лампы – их было штук десять. Как только вырубали свет, а происходило это довольно часто, технички зажигали лампы и разносили их по классам.
Случалось ли в нашей школе такое явление, как любовь? Да, конечно, случалось: возраст учеников примерно от шестнадцати до сорока предполагал наличие в крови тестостерона. Вот доказательство: лучший ученик выпускного класса, краса и гордость школы, влюбился в одноклассницу (не знаю, что он в ней нашёл), бросил семью и ушёл строить новое счастье…
Второй по качеству в масштабах нашей школы ученик девятого класса, весьма недурной наружности, серьёзный и воспитанный, монтажник-высотник по профессии (иногда он приходил на занятия в строительном шлеме) сделал лично мне официальное предложение руки и сердца. Произошло это неожиданно: никаких призывных взглядов с его стороны раньше я вроде бы не замечала – и вдруг после урока, дождавшись, пока все выйдут из класса, подойдя к столу, смущаясь, но не заикаясь, он признался, что влюблён в меня аж с сентября (признание произошло весной), и уже совершенно твёрдым голосом сообщил о своей готовности вступить со мной в законный брак(!) Возможно, он решил, что я мать-одиночка: иногда, чтобы не оставлять Мишу дома одного, я брала его с собой на уроки… хотя нет, он не мог не знать, что я живу в военном городке. Так или иначе, но предложение поступило, и оно прозвучало так убедительно и так трогательно, что я чуть было в порыве альтруизма не согласилась выйти за романтичного монтажника…
Любовь, повлёкшая за собой ужасную трагедию, случилась с нашей Светочкой…
Света – единственным ребёнок в семье – жила с родителями в Хабаровске, недалеко от парка, что на берегу Амура. Мы с Мишей не раз бывали в их гостеприимном доме. Светин папа, гражданский лётчик, считал себя счастливчиком: однажды в небольшой компании, поднимая тост за женщин, он признался, что любит свою жену так, как будто первый год женат. Это было видно невооружённым глазом – надо ли говорить, что свою единственную дочку они просто боготворили…
Какой была Света? Шатенка с серыми выразительными глазами, статная, высокая, всегда стильно одетая: сама могла сшить или связать любой наряд. Она была необыкновенно добра и привязчива. Она была… но её уже давно нет в живых. Она умерла в Бикине от воздушной эмболии, случившейся с ней после криминального аборта. Это произошло уже после того, как мы переехали в Москву: муж поступил в Военно-политическую академию им. Ленина.
Света писала мне в Москву грустные письма о том, что директор снова начал доставать её, что ей не хватает общения со мной: «… придёшь, заглянешь в кабинет – а там ты – и на душе веселей». Потом письма перестали приходить, потом приехала девушка, назначенная учительницей химии вместо Светочки, и привезла ужасную весть.
Оказывается, Света влюбилась в мальчика из музвзвода Серёжу Устименко, по прозвищу Лебедь, его прозвали так потому, что у него была слишком длинная худая для ворота гимнастёрки шея. Их в девятом классе было трое музыкантов из нашей воинской части – Сергей самый простодушный и наивный из них. Они были моими постоянными ночными спутниками по дороге из школы, ребята иногда подтрунивали над ним – он никогда не обижался и смеялся вместе со всеми. Мальчик из многодетной семьи, в шинели и в кирзовых сапогах (из-за худобы форма болталась на нём как на вешалке), вечно шмыгающий носом, он вызывал у меня острую жалость своим неприкаянным видом. Наверно, и Света полюбила его из жалости: кормила, одевала, шила ему стильные брючки и рубашки. Об этом рассказала приехавшая девушка, а мне Светочка ничего о Серёже не писала… можно понять…
Восемнадцатое марта – этот день для меня навсегда останется днём памяти и скорби по ней…. Ангел мой, Светочка, я не забываю тебя…
Вечерняя школа находилась в очень неудобном месте – за железнодорожным полотном между двумя переездами, до каждого из которых было одинаково далеко – поэтому несколько раз на дню, с риском переломать ноги или вообще бесславно погибнуть под колёсами, мне приходилось прыгать с высокого бордюра, перелезать через рельсы, часто под товарными вагонами, если они не были оборудованы переходной площадкой. Страшно, конечно, но и к такому риску со временем всё равно привыкаешь…
Ходить по железнодорожной колее было опасно и днём и, конечно, ночью, хотя ночью я никогда не возвращалась одна: меня охранял музвзвод. Но именно среди белого дня я подверглась нападению.
Сереньким весенним утром в своём светло-зелёном чехословацком пальтишке, беспечно размахивая «портхвельчиком», я шагала по шпалам, спеша на замену в соседнюю дневную школу. Железная дорога не пешеходный проспект – по ней никто не гуляет, она пустынна… Как вдруг я почувствовала, что какая-то неведомая сила отрывает меня от земли! Заболтав ногами в воздухе, я осознала, что кто-то сзади крепко держит меня, просунув руки под мышки. Чья-то глупая шутка? Да нет, не похоже: как-то уж слишком грубо и, главное, молча… Вот чёрт!! Хорошенькое дело!!
Инстинкт самосохранения – невероятно действенная штука: мне удалось вывернуться из непрошенных объятий. Ощутив под ногами землю, я повернулась и столкнулась со злобным взглядом узких азиатских глаз. Солдат! Здоровенный стройбатовец… Скотина!! Вместо того, чтобы броситься наутёк, я, глядя в звероватые глаза азиата, угрожающе прищурилась и прошипела: «Убью». Не отводя ненавидящего взгляда от взбесившегося от переизбытка гормонов животного, я присела, нащупав под рукою камень, зажала его в пятерне – зверёныш мне как-то сразу поверил. В его раскосых щелках мелькнул испуг – вдруг он повернулся и кинулся прочь. Видимо, нервное перевозбуждение толкнуло меня преследовать зверя – держа камень в занесённой для броска руке, я, как фурия, понеслась за ним следом… Через несколько мгновений остановилась и на меня напал безудержный истерический смех…
Из школы возвращалась поздно, часов в двенадцать ночи. Пока мы жили в деревянном доме, я оставляла Мишу с соседями по квартире. Когда переехали в новый панельный, приходилось оставлять с кем-нибудь из солдат, а иногда брала с собой в школу. На уроке Миша сидел тихо, слушал или рисовал. Узнав моё официальное имя, он был так ошеломлён, что несколько дней кряду бегал дома из комнаты в комнату, выкрикивая: «Кастантинова Надежда! Кастантинова Надежда!!»
Надо было срочно искать решение проблемы.
А не пригласить ли отца пожить у нас?
Отец не заставил себя долго упрашивать, и, благополучно преодолев расстояние в две тысячи вёрст, прибыл для оказания посильной помощи семье комиссара. Теперь за Мишу я была спокойна, а отцовы профессиональные навыки художника-оформителя никогда не оставались невостребованными.
Наш комиссар был поэтом в деле оформления Ленинских комнат. Кузьмич (так обычно называли моего отца) открыл ему секрет изготовления идеальных планшетов. Секрет был прост: прежде чем обтягивать раму ватманом, его надо смочить. Отец писал, рисовал и подбрасывал идеи, короче, внёс посильный вклад в дело наглядной агитации и пропаганды военнослужащих мотострелкового полка…
* * *
В Бикине у нас появился новый друг семьи, звали его Иван Григорьевич Визитов, личностью он был неординарной и даже, можно сказать, выдающейся. Муж познакомился с ним на сборах запасников, которых тогда почему-то все называли мабутами… Отставному сержанту запаса Визитову сразу понравился молодой замполит Юрий Павлович.
-– Вот каким должен быть командир, – повернув ладонь, как постамент, вверх, говорил Иван Григорьич, – а не то, что те, которые командовали нами тогда на войне. Те только и знали, что «давай, давай!»
Этот дифирамб пелся уже у нас дома за накрытым столом. Иван Григорьич не скрывал своего отношения к тем командирам, которые требовали от солдата только «давай, давай» любой ценой, – к ним у него имелись большие претензии. Визитов сокрушался не о том, что солдат не жалели – какая жалость на войне? – но слишком много жертв объяснялось головотяпством командиров, часто, особенно в последний год войны, их желанием выслужиться и получить награду. Об этом писал и Юрий Михайлович Лотман, всю войну прослуживший связистом в одном и том же артиллерийском полку. Добрым словом вспоминал он своего полкового командира, который не признавал «моды» бить по противнику прямой наводкой, которая закрепилась в армии после того, как она перешла в наступление. В их полку огневые позиции выбирались заранее, орудия укреплялись – поэтому обстрелы и атаки были результативными и число погибших было меньше в разы, чем в других частях…
Наш старший друг был первым человеком, открывшим мне глаза на то, что во время войны случаи, когда стреляли по своим, не были редкостью, что большое число потерь личного состава происходило по этой причине. Для меня это было ошеломляющей новостью. Мой отец, в отличие от Ивана Григорьича, никогда войну вслух не вспоминал и ничего о ней не рассказывал. Когда Иван Григорьич пускался во фронтовые воспоминания, отец сидел молча, глядя в стол, и, казалось, пережидал рассказ бывалого фронтовика: Волховский фронт не Украинский – у отца была своя правда о войне…
Иван Григорьевич, впервые переступив порог нашего дома, пришёл не с пустыми руками – он принёс свежевыловленного линька. Это был не тот «золотой линь», покрытый мелкой жёлтой чешуёй, описанный Константином Паустовским. Нет, это был дальневосточный линь, большая белая рыбина. Отец её быстро почистил (он любил чистить рыбу и делал это быстро и аккуратно). Я спросила у гостя, нужно ли отрезать хвост, на что он ответил уклончиво: «Скупая хозяйка жалеет масла, а плавники и хвост много берут его».
Вот дипломат!
Я решила не срезать ни хвоста, ни плавников, дабы не прослыть скупой хозяйкой в первый же день знакомства.
Рыба оказалась необыкновенно вкусной, и под рюмочку, под хорошую закусочку пошёл разговор. Иван Григорьич был дивным рассказчиком: его сопровождаемая жестами и мимикой речь текла свободно, ней не было ни мата, ни слов-паразитов, по отношению к собеседникам он проявлял максимум уважения и такта.
Помню, как-то раз я слушала его до утра, причём он строго следил за тем, чтобы налито было поровну, хотя, видимо, проявляя заботу обо мне, наливал не по полной. Когда утром отец и Юрка пришли на кухню, они застали нас за оживлённой беседой.
Несколько его военных историй я запомнила и хочу пересказать одну из них.
На Украине (не помню, в составе какой армии воевал Визитов) он попал в плен. Пленных загнали в вагоны для перевозки скота и повезли в неизвестном направлении. Иван Григорьич не был ранен, он был только контужен и решил во что бы то ни стало бежать. Я нигде, кроме как у Владимира Сорокина (писателя, родившегося через 20 лет после окончания войны) не встречала описания этих самых вагонов. Вагон у Сорокина в романе «Лёд» именно такой, каким я его себе представляла по рассказу Визитова.
Оглядев вагон и оценив обстановку, Иван обнаружил только одно отверстие – это было маленькое окошко, вырезанное в крыше вагона и забранное решёткой. Через такое окно в одиночку не убежишь: высоко, да и прутья решётки толстые – надо искать сообщника…
Пленные – особый народ, тут не каждому доверишься… Стал Иван прислушиваться к разговорам: эти собираются политрука выдать, те деморализованы: в глазах баранья обречённость…
Приуныл наш солдат, присел на кортах, прислонившись к шершавой стене вагона. Рядом с ним оказался вконец измученный человек с замотанной полотенцем шеей, как позже выяснилось, – военфельдшер. Незнакомец тихо спросил: «Бежать решил? Я тоже об этом думаю… Можно попробовать через ту дыру в крыше». Они сговорились попробовать раздвинуть прутья решётки с помощью полотенца, путём его скручивания.
Заняв место под окном и дождавшись темноты, приступили к осуществлению плана. До окошка одному было не дотянуться, поэтому держали друг друга на плечах по очереди. Металл оказался достаточно вязким – прутья начали понемногу подаваться под их усилиями. Когда образовалась дыра, в которую пролазила голова, фельдшер сказал: «Голова пролезла, значит и весь пролезешь – это я тебе как бывший акушер говорю. Беги, Иван, а у меня сил уже нету – второй день кровавый понос»…
Обнялись…
Вылез Иван на крышу: по мелколесью поезд идёт, и раскачивает его то в одну, то в другую сторону. Сообразил, что нужно прыгать тогда, когда поезд отклонится в сторону, противоположную предполагаемому прыжку. Выбрал момент – прыгнул… Задохнувшись от удара о землю, немного отлежался, проверил себя: вроде удачно соскочил, кости целы – и в лес…
Шёл ночами, днём прятался, где придётся, – наконец вышел к селу…
Приняла его одна баба, накормила, дала штатскую одежонку, рассказала, что в селе готовят к отправке в Германию партию молодёжи, в том числе дочку местного старосты, через два дня медкомиссия. Иван решил пойти ва-банк: пришёл ночью к старосте и сказал, что спасёт от угона его дочку, если тот поможет ему выйти на партизан. Старосте план Ивана показался приемлемым, да и выбирать было не из чего – согласился…
В день медицинского освидетельствования Иван зашёл в кабинет первым. Разделся – а ноги у него сплошь гнойными язвами покрыты.