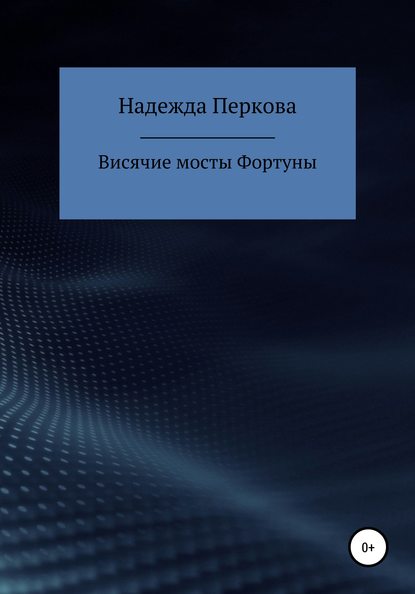По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Висячие мосты Фортуны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Начались занятия в институте. Наша дружба с Машей продолжилась. Она жила в институтском общежитии, в комнате на четырёх человек. Кроме неё, там проживали Нина Иванова из Таштагола, Таня Шаркунова из Новосибирска и Надя Черепанова из Чугунаша – сама Маша была из деревни Безруково, что в сорока километрах от Новокузнецка. Наверно, к вопросу подбора студентов для совместного проживания администрация подходила серьёзно: у Маши и Нади отцы были директорами школ, Танин папа служил в КГБ, одна Нинка Иванова была из простых и отличалась бесшабашностью и легкомыслием. На первом курсе она выскочила замуж за таштагольского парня, через неделю заложила обручальное кольцо в ламбард, через месяц они развелись. А вообще её жизнь сложилась довольно удачно: она вышла замуж за крымчака и до самой пенсии работала в Артеке, благодаря ей Артек стал постоянным местом
встреч институтских друзей по общаге…
Я любила бывать в их комнате и даже немного завидовала их гуртовой жизни и свободе, хотя, сказать по правде, мои родители на мою свободу никогда не покушались…
От нашего дома до института – рукой подать, нужно всего лишь перейти узкий деревянный мостик через Абушку – и вот она, альма матер!
Река Аба – это притча во языцах нашего города. Наверно, до начала индустриализации она была светлой, радующей глаз речушкой, пока возникший из ниоткуда гигантский чудовище-комбинат не принялся осквернять её своими отходами.
Чистая речка превратилась в сплошной поток мазута, переливающегося на солнце всеми цветами радуги. Опозоренная, расцвеченная, как публичная девка, влечётся она с тех пор по центру города, прячась под мостами и создавая им дурную славу. Тёмное притягивает тёмное: под главным городским мостом нередко обнаруживались страшные находки.
«Под мостом на Металлургов опять нашли изуродованный труп женщины», – такое часто можно было услышать в очереди у кассы в гастрономе. Я мертвела: матери, возвращавшейся с работы, приходилось ходить через этот мост по ночам…
Время моей учёбы в институте выпало на моду мини. Подолы юбок подвергались безжалостному обрезанию, особо смелые заходили очень далеко, то есть высоко – аж до тазобедренного сустава.
Когда после первого курса я встретила в институте Григория Александровича, он, оглядев меня, спросил:
-– Надя, в чём дело? По-моему, с ногами у вас всё в порядке, почему же платье не короткое?
-– Как, разве не короткое? Мне кажется, в пределах нормы – на ладонь выше колена.
Учитель из Горной Шории указал мне на мой консерватизм!! Боже, как всё запущенно! Пришлось браться за ножницы и укорачивать, но не на много: очень короткое платье выглядело, на мой вкус, слишком вульгарно, правда, спустя некоторое время я переменила своё мнение.
Мои институтские подруги новую моду освоили сходу. Таня Шаркунова рассказывала, что когда они входили в ресторан в своих мини (а ходили они туда всей комнатой довольно часто), от мужских столиков к их ногам тянулись жадные руки – она забавно изображала эти бестыжие руки и сладострастно прижмуренные глаза. Что и говорить, для мужчин такая мода, наверняка, была отрадным явлением…
* * *
От лекций я ожидала большего, но, видимо, чтобы засеять целину нашего невежества, и того было достаточно, а ежели кому-то недостаёт, можно и в библиотеке добрать…
Профессор на кафедре литературы был всего один, Алексей Фёдорович Абрамович, историческая личность: видел живым самого Горького. Он хранил у себя раритетный документ – пропуск на первый Всесоюзный съезд советских писателей за подписью основоположника соцреализма. Именно профессор Абрамович сумел заинтересовать меня романом Горького «Жизнь Клима Самгина». С его слов, Горький настаивал, чтобы ударение в фамилии Самгин падало на первый слог, так как она образована от местоимения «сам», а целью романа было разоблачение причин ренегатства интеллигенции в революции…
На меня роман Горького оказал почти такое же воздействие, как впоследствии «Мастер и Маргарита». Богатство духовной и интеллектуальной жизни в предреволюционный период в среде образованной молодёжи, психологизм, обилие эротических сцен – всё это настолько захватывало, что я с удовольствием прочла его от корки до корки. Вот не ожидала от Горького!!
Роман оказался интересным прежде всего выбором главного героя, вернее, антигероя. Скрупулёзно, с болезненным пристрастием изучая закоулки мелкой и вялой души Клима Самгина, писатель как будто старается ответить себе самому, за что же всё-таки он так его ненавидит. Самое горькое для Горького, наверно, заключалось в том, что и в самом себе он находил некоторые черты своего антигероя. Коварство этого несимпатичного образа заключалось в том, что он провоцировал тревожное беспокойство в читателе: а я-то всё ли о себе знаю? А нет ли и во мне той изворотливости ума, умеющего оправдать любую свою подлость? По крайней мере, во мне он вызывал такие вопросы…
Позже я нашла описание самгинского типа в Откровении Святого Иоанна Богослова, а именно в Послании Ангелу Лаодикийской церкви:
откровение 3:15. знаю дела твои; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!
откровение 3:16. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Умеренная температура души, отсутствие сильных чувств, неумение жертвовать чем-то своим, малодушное поведение в минуты опасности, самость – всё это, по мнению профессора Абрамовича, осудил Горький в той части русской интеллигенции, которая не смогла принять революцию…
Первым экзаменом первой сессии была история КПСС, и я сдала её на «пять». Конечно, я не знала и на слабенькую тройку, но есть такой редкий тип преподавателей, которых я просто обожаю: они чувствуют момент, когда нужно произнести спасительное слово «достаточно». Таким был Юрий Алексеевич Иванов, он остановил меня сразу после того, как я изложила ему суть «Кредо» мадам Кусковой, которое мы обсуждали на семинаре. Если бы не остановил, дальше была бы тишина и заплыв на длинную дистанцию. Маше Антош тот же тонкий и деликатный Юрий Алексеевич почему-то поставил двойку. Кто их поймёт, этих экзаменаторов!
Практикум по русскому языку в нашей группе вёл молодой ассистент, мы занимались в основном комментированным письмом по Розенталю. Преподаватель, не намного старше нас, держался просто, но не запанибрата. Моя задремавшая было влюбчивость, подняла голову и пригляделась: юный брюнет с горячими глазами хорош, но слишком уж серьёзен, да и кольцо на безымянном пальце правой руки как-то охлаждало легкомысленные порывы. Как же его звали?
Пришлось позвонить Маше Антош:
-– Маш, помнишь у нас на первом курсе вёл практикум по русскому такой маоденький-маоденький, «губы как кровь, чёрная бровь»? Он ещё в колхоз с нами ездил, фамилия, кажись, на Б…
-– Балакай что ли?
-– Точно! Балакай Анатолий, отчества не помню. Не знаешь, как у него карьера сложилась?
-– Не знаю. Знаю, что он умер в прошлом году.
Боже! Как обухом по голове.
Набрала в
G
оо
gl
е
«Балакай Анатолий» – сразу открылось: «известный российский учёный-лингвист, автор словаря речевого этикета, профессор кафедры русского языка КузГПА». С фотографии глядело строгое, даже немного желчное лицо, в котором я не находила ни одной знакомой черты, зато на другом фото, ниже, я увидела того самого чернобрового, черноглазого… Сквозь слёзы, застилавшие мои глаза, на чёрно-белом снимке вдруг начали проступать прежние краски этого лица… Кто он был по национальности? Балакай. Украинец?
Googl
е
ответил мне и на этот вопрос. Такую фамилию получали греки-переселенцы на Украине. «Ты балакай по-нашему», – говорили им местные. Да, на грека он был похож и на крымского татарина тоже…
* * *
Ещё до начала зимней сессии я получила письмо из Новосибирска, оно было примерно такого содержания: «В мой последний приход твоя соседка выдала: «Надя сказала, что её нет дома»… Я понимаю, Надя, что виноват перед тобою. Но всё же хочется ясности: могу я быть прощённым тобой или нет? Если можешь простить – прости… Галя Николаева оказалась совершенно чужим, неинтересным мне человеком…»
Неужели чужим? Кто бы мог подумать? Про метаморфозы со шкалой ценностей уже ни слова – догадайся, мол, сама…
Цена, цену, ценой, ценою, о цене…
Я не торопилась с ответом: мне хотелось ещё немного побыть ничьей, свой собственной. А потом… как там у Марины Ивановны:
Что мне, ни в чём не знавшей меры,
Чужие и свои?!
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно: