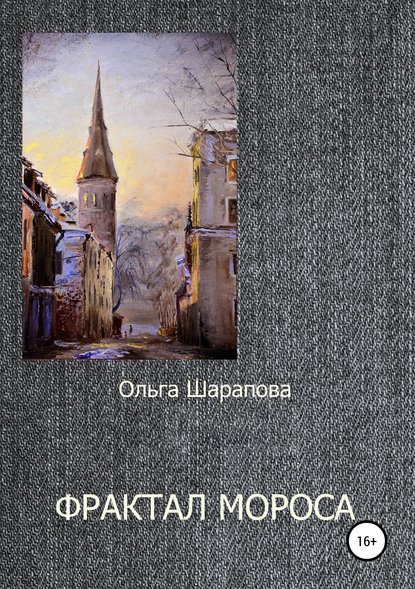По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фрактал Мороса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты сдал меня, гад!
– Нет чтобы проставиться, поперся на экскурсию просто так. С тебя пузырь!
– Ну, я согласен! Когда вернемся, – закряхтел Рома. Он смутился.
– Не повезло нашему Ромке, день рождения в праздник, считай на подарок меньше.
– Ну, не скажи! Не повезло, это когда день рождения летом. Вот у меня летом. В каникулы все разъезжаются, и я праздную его только с родственниками.
– Нет, Дарьяш, летом – это хорошо. И умереть и родиться.
– Особенно умереть!
– Чего хорошего?!
– На могилу будут приходить, а зимой – никто не придет.
– Рома, мы тебя поздравляем!
* * *
Церковь на площади была открыта всем ветрам. Она завернулась в синее небо, в неожиданную предвесеннюю ясность. Ветер и мороз охватывали тысячами тонких пальцев. Белый гостиный двор, монастырь, храмы с заколоченными вратами и окнами и Таня, отражавшаяся во всех стеклах, мимо которых проходила. Музей игрушки, заснеженные мосты, белый целлофановый пакет, возносящийся на Торгу[66 - На Торгу – Площадь около торговых рядов Гостиного двора в центре Суздаля.]. Бессмысленный город горького и сладкого чужого прошлого, в который хочется приехать еще, но оставаться слишком страшно.
Отобедали в большом зале столовой, где давали порезанный наискось черный хлеб и квас к серым котлетам.
А потом они снова мерзли в овраге под крепостным валом, и только Таня была равнодушной, и не замерзшей, и не испуганной.
– Ты замерзла?
– Ага! Немножко. Ноги замерзли. А ты?
– Тоже.
Дарьяша взяла его руки в свои теплые мягкие ручки.
– А руки теплые!
– Они у меня всегда теплые!
Ликас сел с ней, враз оборвав отражения. И всю дорогу назад они говорили о климате севера и средней полосы, о доме, о том, как лучше искать музыку по друзьям, где достать шмотки.
И деревни мелькали в ранней ночной темени, разрушенные храмы холодной войны страны самой с собой.
– Где ты живешь?
Он сказал.
– А если я приеду?
– А если я сам тебя затащу?
– Затащи.
– Поедем сегодня?
– Сегодня нет.
– А завтра?
– Попробуем.
* * *
Снег падал последними февральскими хлопьями, вырезанный из бумаги, из ваты, из перьев белой птицы.
Дарьяша хотела попросить его постелить новое белье, но не хватило духу, а сам он не догадался.
«Ну и черт с ним. В конце концов, может так и надо. Какая разница». Мягкие ее руки, всегда теплые, касались его кожи, и он уже не очень различал, кто это, когда придавил ее к дивану, и не с первого и даже не со второго раза в такт его пружинящим движениям, он входил в резонанс с чем-то неведомым, холодным, вечным и временным для него.
Чье это лицо перед ним, кто это – не важно. Что это неаполитанской пастелью[67 - Неаполитанская пастель – светлая краска, чаще телесного цвета.] набросано случайным художником?
Ветер раскачивал липку во дворе. Скрип ее был метрономом медленного начала их соития.
* * *
Чтобы расти, нужны нетупиковые люди рядом. Ветер весенний иногда прилетает в Москву в феврале. Солнечный воздух, пропитанный мокрой землей. Это то самое, тягостное-теплое, невыразимое, лучшее, что только можно вдохнуть в марте, когда тает снег. Как там сейчас в Литве? Тепло, и в воздухе водяные пузыри. Крыши особенно яркие. Когда обливаешь что-то водой, цвет наполняется, берет взаймы жизнь и жидкость вокруг. И в Литве это особенно чувствуется. Как бы ни казался себе Ликас русским, проснувшаяся любовь его к прошлому уже не гасла. Она не гаснет почти ни в одной нации, потерявшей свое. Ее невозможно низвести, растворить. Любовь генетическая и любовь кинетическая[68 - Кинетический процесс – процесс в неравновесных средах.]. «Даже у греков нет такого названия любви к одной из двух родин».
Мир, ограниченный низкорослым двором, когда нет сил выйти из дома. Эти дешевые книжки по пятьдесят страниц.
Ликас вспомнил, как в учебнике по физике на примере квадратов и шаров показывались бессмысленные опыты. Шар, который держали на весу имел кинетическую энергию, а этот же, упавший – лежал на плоской поверхности, и в рамке было написано: «переход кинетической энергии в потенциальную». То есть, возможность упасть, потенциал к действию, подвешенность – это кинетическая энергия. Он так и не понял ничего тогда.
Он переводил книжку религиозных извращенцев. «Последователи мисс Богородицы Феодулы». Абсурдный эрзац американских сект. «Время ускоряется за грехи наши. Пороки родовые ускоряют время».
«Интересно, если заменить термины на какие-нибудь совсем другие, заметит ли корректор? А если заметит, скажу, что не понял».
Он отодвинул книгу, начал вспоминать литовских божков, словечки и суеверия из тех времен, когда в детстве они производили впечатление и имели такое живое звучание, которое сейчас иметь не могут. Он вспомнил, как ругались отцовская бабушка и мать, и сразу вдруг остановился. Мать… Он ведь почти два месяца не говорил с ней, а она угрожала переехать в Москву, продать квартиру в Каунасе. И то, что о ней не было слышно, даже радовало. Но что-то давно она не звонила.
Был первый час ночи. Но он набрал каунасский номер.
– Sveiki[69 - Sveiki – «Алло» (лит.)].
– Мать, привет!
– Что? Вас плохо слышно.
– Мама, это я.
– Вы видели время?