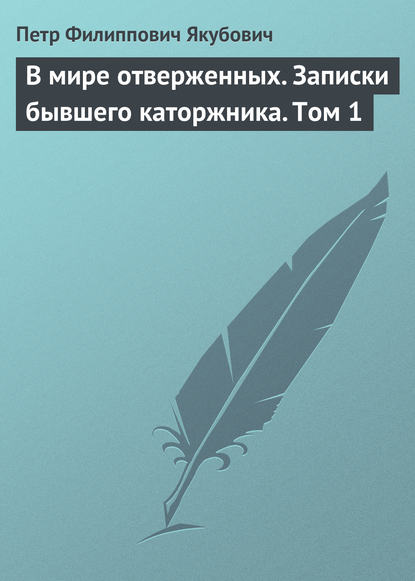По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На голове все время были. Как только вбежал он, я живой рукой, будто шапку поправил, и сунул их под шапку… Глаза-то у него разбежались – он и не видал. Всего обыскал, под шапку только не догадался заглянуть.
Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. Еще нечто подобное проделал Яшка Тарбаган. Другой надзиратель, заподозрив в предбаннике игру, тоже опрометью вбежал туда и начал всех обыскивать. Главное подозрение падало на Тарбагана, но найти при нем карты ему все-таки не удалось. Оказалось потом, что Яшка во все время обыска держал колоду карт на ладони левой руки, искусно прижав ее мизинцем и большим пальцем… Впрочем, несмотря на подобные случаи, я не могу сказать, чтобы в общем арестанты отличались уменьем конспирировать и прятать запрещенные вещи. Все их прославленное уменье и ловкость заключается в дерзости, в нахальной находчивости. Обычные качества русской натуры, легкомыслие и халатность, в высшей степени свойственны им.
Однако самый факт появления в тюрьме карт и денег показывал, что одной воли Шестиглазого и нагоняемого им страха недостаточно для того, чтобы образцовая Шелайская тюрьма стояла всегда на одном и том же уровне строгости и образцовости. Я имел много случаев убедиться, что у арестантов были постоянные сношения и с волей, с теми немногими вольнокомандцами, которые еще до нашего прихода жили в услужении у самого начальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время от времени лишние рукавицы и рубахи, которые относились в гору и сдавались сторожу-старику или оставлялись в заранее условленных местах. Лазейки понемногу расширялись. Шаг за шагом делались завоевания и в более существенных пунктах. Так, самим надзирателям не нравилось производить утреннюю поверку на дворе, мерзнуть на сорокаградусном морозе, стоя с обнаженной головой во время молитвы, и вот начали вскоре производить ее в коридоре. Лучезаров вставал поздно, и не было опасности, что он явится когда-нибудь сам. Арестанты пошли дальше и, после долгих пререканий с надзирателями, ввели обычай не петь, а только читать утренние молитвы. Молитва по утрам вообще была скорее богохулением, нежели благочестивым делом. Голодные, продрогшие, заспанные, еще неумытые арестанты выстраивались в коридоре и стояли на сквозном ветру верных десять-пятнадцать минут, пока надзиратели ухитрялись сосчитать их. Арифметику шелайские надзиратели знали вообще очень плохо – и в то же время, вместо того, чтобы считать всех подряд, считали почему-то каждую из девяти камер отдельно, прибавляя потом oдну к другой.
– Шестнадцать да восемнадцать – тридцать три.
– Тридцать четыре, Прокопий. Филиппыч, – поправил кто-нибудь из арестантов, выходя из. терпения.
– Ох, сбил ты меня, паря! Надо снова пересчитать. И бежит уже в третий раз проверять все сначала.
Наконец, раздается команда:
– На молитву! Шапки до-лой! Все молчат.
– Чего же молчите? Пойте.
– Некому петь, Прокопий Филиппыч.
– Как некому? Вечером поете же?
– То вечером, другое дело… А теперь, со сна, глотка каждого сухая, осипшая.
– Ну, так читайте хоть кто-нибудь. Все молчат.
– Ну ты, Пенкин, читай!
– Я слов не знаю, Прокопий Филиппыч.
– Как не знаешь? Ты певчий. В карец захотел, что ли? Это что за безобразие! Я начальнику доложу.
– Ей-богу, слов не знаю, Прокопий Филиппыч. На слух-то могу петь, а прочесть не умею.
– Читай ты, Буланов.
– Голосу нет, Прокопий Филиппыч.
– Что за вздор! Говорит, а у самого голосу нет. Читай.
– Я мордвин, Прокопий Филиппыч, – пищит Буланов, – какой может быть читатель мордвин? Ну да я прочитаю, если хотите:
"Очи наши рижеси на небеси. Да святится имя твое, придет царство твое, будет воля твоя на небеси, как и на земли. Хлеб наш насущный дай нам есть. Не остави нам долги наши, яко же и мы не оставляем должникам нашим. Не введи нас в искушение, не избавь нас от лукавого. Аминь".
– По камерам шагом марш!..
С шумом и смехом расходится кобылка по камерам.
– Ай да мордвин! Не умею, говорит, а сам как отхватил, хоть бы и попу – так впору!
С тех пор каждое утро слышали мы это "очи наши рижеси на небеси…"
Послабления пошли и еще дальше. Вначале было строго предписано надзирателям на один только час в день отворять камеры настежь для очищения воздуха и для прогулки "слабых", освобожденных фельдшером от работ. Выпускались старосты в кухню за обедом – камеры мгновенно захлопывались за ними и замыкались; возвращались они с обедом – надзирателю опять приходилось по очереди впускать их. Таким образом, в течение дня, от утренней до вечерней поверки, ему приходилось раз пятьдесят отворить каждую камеру и столько же раз запереть. А камер было девять. Само собой разумеется, что даже самые исполнительные из надзирателей чувствовали себя несчастнейшими в мире людьми в дни своего дежурства, находясь в непрерывном волнении, беготне и поту; а так как на всю тюрьму полагался один только внутренний дежурный (другой был за воротами), то естественно, что он почти не имел времени следить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за мастерской, где производилась починка белья и обуви. Ввиду этого Лучезаров разрешил вскоре держать камеры отпертыми по праздникам в течение всего дня, в будни же от утреннего звонка на работу до возвращения горных рабочих. После этого попущения со стороны высшего начальства и надзиратели сделались смелее. Арестанты, со своей стороны, не уставали их подзуживать.
– Эх, Прокопий Филиппыч, всё-то вы боитесь, всё-то пужаетесь.
– Я, брат, по инструкции… Мне как велено.
– Велено-то оно велено, спору нет. Только человеку понятие тоже дано ведь. Почему же вот ни Иван Павлович, ни Василий Андреевич никогда камер на запоре не держат? Ну конечно, ежели предполагают, что начальство сейчас явится, тогда поспешают. Так на то звонок ведь есть: старший дежурный предупредить обязан.
– Не может этого быть. Не поверю, чтоб Иван Павлович али Василий Андреевич камер не запирали. Чего мелешь непутевое, собачий сын?
– Ей-богу-с, правду говорю, не запирают. Конечно, болтать только об этом здря не велят. Потому они люди тонкого понимания.
– Сомнительно что-то, – отходил прочь Прокофий Филиппович, покачивая головой, но тем не менее впадая л некоторое раздумье.
А на Василия Андреевича и Ивана Павловича арестанты старались между тем воздействовать мнимой снисходительностью к ним Прокофия Филипповича. Преувеличенные похвалы соперникам нередко оказывали-таки свое влияние, и кто-нибудь из надзирателей становился вскоре действительным любимцем публики.
– Это не Иван Павлович, а просто объеденье! – говорили они меж собой, не зная, как похвалить его.
Но как ни важны, как ни значительны были все послабления и уступки, отвоеванные с течением времени арестантами, для меня жизнь в Шелайском руднике по-прежнему была невыразимо тяжела. Тошнотворная и малопитательная пища; работа в сырых и холодных шахтах; казарменно-унизительный строй жизни, попирающий в грязь все заветнейшие чувства и стремления, лишение свободы и общения с образованным миром; тесное сожительство с людьми, с которыми так мало имелось общего и родного; горькие Дни и черные ночи с мучительной бессонницей или кошмарными снами, – ах! и теперь еще, по прошествии стольких лет, я вздрагиваю – каждый раз, как вспомню обо всем этом… Сердце опять трепещет, опять полно ран и скорби… Тише, тише, непокорное! Победи свой порыв! Превратимся опять в беспристрастных летописцев хоть и ужасного, но все же пережитого прошлого. Будем рассказывать по порядку, что в нем было наиболее важного и любопытного: авось кому-нибудь пригодится!
VIII. Начало моей школы
С наступлением зимы и удлинением ночей нас запирали на замок все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила наконец вечерняя поверка со всеми ее страхами, окриками, громом и блеском, когда щелкал замок за удалявшейся свитой Лучезарова, только тогда вздыхал я полной грудью и чувствовал, что до следующего утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется в мою душу, что на целые полусутки я застрахован от всякой новой обиды и поругания. Много было отвратительных сторон в этом долговременном пребывании под замком, но для меня существовали более страшные вещи, чем спертый, удушливый воздух и близкое общение с отбросами человечества. Впрочем, постараюсь дать читателю некоторое представление и о той атмосфере, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному расчету, была устроена на шестнадцать человек (число это значилось и на дощечке, прибитой к дверям); но, как я говорил уже, партия пришла большая, и в каждой камере было по двадцать и даже по двадцать два человека. Пятерым в нашем номере не хватило места на нарах, и они принуждены были спать на полу (на пол сгоняли обыкновенно татар и сартов). Оконная форточка в камере имелась, но так как русскому человеку принадлежит знаменитое в науке открытие, что пар костей не ломит, то открывали ее чрезвычайно редко и неохотно. Ее, наверное, и никогда бы не открывали, если бы не моя настойчивость; однако и я стеснялся слишком злоупотреблять своим влиянием, встречая порой косые и прямо враждебные взгляды старичков вроде Гандорина.
Этот достопочтенный и благочестивый старец, с своей стороны, мало стеснялся: ровно через две минуты он, как кот, осторожно подкрадывался к отворенной мною форточке и с постным, умиленным выражением лица, на правах старосты, потихоньку захлопывал ее; а чтоб не обидеть, с другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетворение, приотворял ненадолго посторонку и, держа в зубах трубку, шамкал в мою сторону:
"Она тоже выносит… Еще способнее".
Этот Гандорин был истинным мучителем моим. С лицом святого, с седенькой бородкой клинышком и изможденным лицом, он был обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовестно съедая до последней крошки собственную порцию баланды, какую бы мерзость она ни представляла, он в качестве старосты еще сливал к себе же остатки от всех других порций и тоже обязательно съедал. Съедал и весь хлеб – свой и остатки чужого. Допивал весь оставшийся чай… Ум отказывался понимать, куда все это лезло в тщедушного старичонку! Но зато он сторицей же отдавал и обратно то, что воспринимал в себя: вечно страдая расстройством желудка, он поминутно принужден был выбегать куда нужно, да когда и назад возвращался, соседям его не приходилось благодарить судьбу… К несчастью, он спал всего через два человека от меня: Чирок, Тарбаган и он… Мое место было у самой степы. Впрочем, не один Гандорин страдал катаром желудка, который и неудивителен был при том ужасном пищевом режиме, который ввел в Шелайской тюрьме бравый штабс-капитан; поэтому атмосфера небольшой камеры, где скучилось с лишком двадцать взрослых человек, почти прикасавшихся телами один к другому, была по вечерам в высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которые арестанты тут же, около печки, развешивали для просушки. Онучи эти у некоторых не мылись по целому году, и от них пахло такой омерзительной прелью, что непривычного человека могло бы стошнить… У многих арестантов ужасно воняли и самые ноги от постоянно струившегося по ним пота (болезнь очень распространенная среди рабочего люда).
И все-таки, еще раз повторяю, я всегда чувствовал радость, когда проходила поверка и нас запирали на замок.
Подбором своих сожителей, за малыми исключениями, я был вполне доволен. Большего эти люди не могли мне дать, и смешно было бы на них сетовать за это. Отношения между нами с самого начала установились дружеские. В первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающих грамоте. Едва я высказал однажды – полушутя, полусерьезно – это желание, как экспансивный Никифор Буренков сорвался с нар и, подбегая ко мне, закричал:
– Вот хорошо-то будет! Я, знаешь, Миколаич, давно уж просить тебя хочу, да все не смею… А ты сам надумал… Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьявол ее побери! Приду домой – диву все дадутся: неужто это Микишка? Тот ведь ни аза в глаза не знал, а этот… И знаешь что, Миколаич? Ты выучи меня и рихметике также… Счет мне знать хочется… Я там у них писарем буду – вот окручу-то всех!
Я отвечал Буренкову, что учиться надо не для окручивания людей, а, напротив того, для выкручиванья их из сетей темноты и всяческой неправды. Никифор сконфузился и поспешил уверить меня, что это он "так только, пошутил".
Этот человек был настоящее "дитя природы"; такого неуменья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встречал в другом человеке. Лицо его было лучшим зеркалом его души. Высокий, костлявый, он весь был – страсть и огонь; порывистые движения, постоянно веселый нрав, остроумие, незлопамятность, легкомыслие делали его всеобщим любимцем. В больших серых глазах его и тонких губах, оттененных длинными мягкими усами и желтой козлиной бородкой, светилось, правда, и некоторое лукавство. Он сам иначе не говорил про себя, как "мы, мошенники"… Но стоило немного присмотреться к Никифору, чтобы убедиться, что он не только хороший товарищ во всякого рода "фартовых" предприятиях, но также и рубаха-парень. Он был из "семейских" Верхнеудинского округа староверов беспоповского толка; но раннее знакомство с приисками и природная склонность к товариществу и молодечеству превратили его в одного из героев больших дорог, специальность которых – срезывать чаи в обозах. За это и пошел он с двоюродным своим братом Михайлой в каторгу на четыре года.
Вся камера живейшим образом заинтересовалась мыслью об устройстве школы. Старики подталкивали более молодых, побуждая учиться. Процент грамотных ничтожен в тюрьме. В нашей камере грамотных оказалось всего трое: Семенов, Парамон Малахов и некто Владимиров. Но были и такие камеры, где царила, поголовная безграмотность. Я спросил, кто еще станет учиться. На некоторых лицах читалось страстное желание объявиться, но все молчали.
– Ты, Пестрев, чего же? – кричали на одного совсем молодого паренька, вялого, молчаливого и конфузливого.
– У меня, братцы, память плохая.
– Вот сказал! У нас, что ль, лучше, у стариков? Кому и учиться, как не тебе? Парню девятнадцать лет, в самом что ни на есть соку.
Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. Еще нечто подобное проделал Яшка Тарбаган. Другой надзиратель, заподозрив в предбаннике игру, тоже опрометью вбежал туда и начал всех обыскивать. Главное подозрение падало на Тарбагана, но найти при нем карты ему все-таки не удалось. Оказалось потом, что Яшка во все время обыска держал колоду карт на ладони левой руки, искусно прижав ее мизинцем и большим пальцем… Впрочем, несмотря на подобные случаи, я не могу сказать, чтобы в общем арестанты отличались уменьем конспирировать и прятать запрещенные вещи. Все их прославленное уменье и ловкость заключается в дерзости, в нахальной находчивости. Обычные качества русской натуры, легкомыслие и халатность, в высшей степени свойственны им.
Однако самый факт появления в тюрьме карт и денег показывал, что одной воли Шестиглазого и нагоняемого им страха недостаточно для того, чтобы образцовая Шелайская тюрьма стояла всегда на одном и том же уровне строгости и образцовости. Я имел много случаев убедиться, что у арестантов были постоянные сношения и с волей, с теми немногими вольнокомандцами, которые еще до нашего прихода жили в услужении у самого начальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время от времени лишние рукавицы и рубахи, которые относились в гору и сдавались сторожу-старику или оставлялись в заранее условленных местах. Лазейки понемногу расширялись. Шаг за шагом делались завоевания и в более существенных пунктах. Так, самим надзирателям не нравилось производить утреннюю поверку на дворе, мерзнуть на сорокаградусном морозе, стоя с обнаженной головой во время молитвы, и вот начали вскоре производить ее в коридоре. Лучезаров вставал поздно, и не было опасности, что он явится когда-нибудь сам. Арестанты пошли дальше и, после долгих пререканий с надзирателями, ввели обычай не петь, а только читать утренние молитвы. Молитва по утрам вообще была скорее богохулением, нежели благочестивым делом. Голодные, продрогшие, заспанные, еще неумытые арестанты выстраивались в коридоре и стояли на сквозном ветру верных десять-пятнадцать минут, пока надзиратели ухитрялись сосчитать их. Арифметику шелайские надзиратели знали вообще очень плохо – и в то же время, вместо того, чтобы считать всех подряд, считали почему-то каждую из девяти камер отдельно, прибавляя потом oдну к другой.
– Шестнадцать да восемнадцать – тридцать три.
– Тридцать четыре, Прокопий. Филиппыч, – поправил кто-нибудь из арестантов, выходя из. терпения.
– Ох, сбил ты меня, паря! Надо снова пересчитать. И бежит уже в третий раз проверять все сначала.
Наконец, раздается команда:
– На молитву! Шапки до-лой! Все молчат.
– Чего же молчите? Пойте.
– Некому петь, Прокопий Филиппыч.
– Как некому? Вечером поете же?
– То вечером, другое дело… А теперь, со сна, глотка каждого сухая, осипшая.
– Ну, так читайте хоть кто-нибудь. Все молчат.
– Ну ты, Пенкин, читай!
– Я слов не знаю, Прокопий Филиппыч.
– Как не знаешь? Ты певчий. В карец захотел, что ли? Это что за безобразие! Я начальнику доложу.
– Ей-богу, слов не знаю, Прокопий Филиппыч. На слух-то могу петь, а прочесть не умею.
– Читай ты, Буланов.
– Голосу нет, Прокопий Филиппыч.
– Что за вздор! Говорит, а у самого голосу нет. Читай.
– Я мордвин, Прокопий Филиппыч, – пищит Буланов, – какой может быть читатель мордвин? Ну да я прочитаю, если хотите:
"Очи наши рижеси на небеси. Да святится имя твое, придет царство твое, будет воля твоя на небеси, как и на земли. Хлеб наш насущный дай нам есть. Не остави нам долги наши, яко же и мы не оставляем должникам нашим. Не введи нас в искушение, не избавь нас от лукавого. Аминь".
– По камерам шагом марш!..
С шумом и смехом расходится кобылка по камерам.
– Ай да мордвин! Не умею, говорит, а сам как отхватил, хоть бы и попу – так впору!
С тех пор каждое утро слышали мы это "очи наши рижеси на небеси…"
Послабления пошли и еще дальше. Вначале было строго предписано надзирателям на один только час в день отворять камеры настежь для очищения воздуха и для прогулки "слабых", освобожденных фельдшером от работ. Выпускались старосты в кухню за обедом – камеры мгновенно захлопывались за ними и замыкались; возвращались они с обедом – надзирателю опять приходилось по очереди впускать их. Таким образом, в течение дня, от утренней до вечерней поверки, ему приходилось раз пятьдесят отворить каждую камеру и столько же раз запереть. А камер было девять. Само собой разумеется, что даже самые исполнительные из надзирателей чувствовали себя несчастнейшими в мире людьми в дни своего дежурства, находясь в непрерывном волнении, беготне и поту; а так как на всю тюрьму полагался один только внутренний дежурный (другой был за воротами), то естественно, что он почти не имел времени следить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за мастерской, где производилась починка белья и обуви. Ввиду этого Лучезаров разрешил вскоре держать камеры отпертыми по праздникам в течение всего дня, в будни же от утреннего звонка на работу до возвращения горных рабочих. После этого попущения со стороны высшего начальства и надзиратели сделались смелее. Арестанты, со своей стороны, не уставали их подзуживать.
– Эх, Прокопий Филиппыч, всё-то вы боитесь, всё-то пужаетесь.
– Я, брат, по инструкции… Мне как велено.
– Велено-то оно велено, спору нет. Только человеку понятие тоже дано ведь. Почему же вот ни Иван Павлович, ни Василий Андреевич никогда камер на запоре не держат? Ну конечно, ежели предполагают, что начальство сейчас явится, тогда поспешают. Так на то звонок ведь есть: старший дежурный предупредить обязан.
– Не может этого быть. Не поверю, чтоб Иван Павлович али Василий Андреевич камер не запирали. Чего мелешь непутевое, собачий сын?
– Ей-богу-с, правду говорю, не запирают. Конечно, болтать только об этом здря не велят. Потому они люди тонкого понимания.
– Сомнительно что-то, – отходил прочь Прокофий Филиппович, покачивая головой, но тем не менее впадая л некоторое раздумье.
А на Василия Андреевича и Ивана Павловича арестанты старались между тем воздействовать мнимой снисходительностью к ним Прокофия Филипповича. Преувеличенные похвалы соперникам нередко оказывали-таки свое влияние, и кто-нибудь из надзирателей становился вскоре действительным любимцем публики.
– Это не Иван Павлович, а просто объеденье! – говорили они меж собой, не зная, как похвалить его.
Но как ни важны, как ни значительны были все послабления и уступки, отвоеванные с течением времени арестантами, для меня жизнь в Шелайском руднике по-прежнему была невыразимо тяжела. Тошнотворная и малопитательная пища; работа в сырых и холодных шахтах; казарменно-унизительный строй жизни, попирающий в грязь все заветнейшие чувства и стремления, лишение свободы и общения с образованным миром; тесное сожительство с людьми, с которыми так мало имелось общего и родного; горькие Дни и черные ночи с мучительной бессонницей или кошмарными снами, – ах! и теперь еще, по прошествии стольких лет, я вздрагиваю – каждый раз, как вспомню обо всем этом… Сердце опять трепещет, опять полно ран и скорби… Тише, тише, непокорное! Победи свой порыв! Превратимся опять в беспристрастных летописцев хоть и ужасного, но все же пережитого прошлого. Будем рассказывать по порядку, что в нем было наиболее важного и любопытного: авось кому-нибудь пригодится!
VIII. Начало моей школы
С наступлением зимы и удлинением ночей нас запирали на замок все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила наконец вечерняя поверка со всеми ее страхами, окриками, громом и блеском, когда щелкал замок за удалявшейся свитой Лучезарова, только тогда вздыхал я полной грудью и чувствовал, что до следующего утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется в мою душу, что на целые полусутки я застрахован от всякой новой обиды и поругания. Много было отвратительных сторон в этом долговременном пребывании под замком, но для меня существовали более страшные вещи, чем спертый, удушливый воздух и близкое общение с отбросами человечества. Впрочем, постараюсь дать читателю некоторое представление и о той атмосфере, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному расчету, была устроена на шестнадцать человек (число это значилось и на дощечке, прибитой к дверям); но, как я говорил уже, партия пришла большая, и в каждой камере было по двадцать и даже по двадцать два человека. Пятерым в нашем номере не хватило места на нарах, и они принуждены были спать на полу (на пол сгоняли обыкновенно татар и сартов). Оконная форточка в камере имелась, но так как русскому человеку принадлежит знаменитое в науке открытие, что пар костей не ломит, то открывали ее чрезвычайно редко и неохотно. Ее, наверное, и никогда бы не открывали, если бы не моя настойчивость; однако и я стеснялся слишком злоупотреблять своим влиянием, встречая порой косые и прямо враждебные взгляды старичков вроде Гандорина.
Этот достопочтенный и благочестивый старец, с своей стороны, мало стеснялся: ровно через две минуты он, как кот, осторожно подкрадывался к отворенной мною форточке и с постным, умиленным выражением лица, на правах старосты, потихоньку захлопывал ее; а чтоб не обидеть, с другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетворение, приотворял ненадолго посторонку и, держа в зубах трубку, шамкал в мою сторону:
"Она тоже выносит… Еще способнее".
Этот Гандорин был истинным мучителем моим. С лицом святого, с седенькой бородкой клинышком и изможденным лицом, он был обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовестно съедая до последней крошки собственную порцию баланды, какую бы мерзость она ни представляла, он в качестве старосты еще сливал к себе же остатки от всех других порций и тоже обязательно съедал. Съедал и весь хлеб – свой и остатки чужого. Допивал весь оставшийся чай… Ум отказывался понимать, куда все это лезло в тщедушного старичонку! Но зато он сторицей же отдавал и обратно то, что воспринимал в себя: вечно страдая расстройством желудка, он поминутно принужден был выбегать куда нужно, да когда и назад возвращался, соседям его не приходилось благодарить судьбу… К несчастью, он спал всего через два человека от меня: Чирок, Тарбаган и он… Мое место было у самой степы. Впрочем, не один Гандорин страдал катаром желудка, который и неудивителен был при том ужасном пищевом режиме, который ввел в Шелайской тюрьме бравый штабс-капитан; поэтому атмосфера небольшой камеры, где скучилось с лишком двадцать взрослых человек, почти прикасавшихся телами один к другому, была по вечерам в высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которые арестанты тут же, около печки, развешивали для просушки. Онучи эти у некоторых не мылись по целому году, и от них пахло такой омерзительной прелью, что непривычного человека могло бы стошнить… У многих арестантов ужасно воняли и самые ноги от постоянно струившегося по ним пота (болезнь очень распространенная среди рабочего люда).
И все-таки, еще раз повторяю, я всегда чувствовал радость, когда проходила поверка и нас запирали на замок.
Подбором своих сожителей, за малыми исключениями, я был вполне доволен. Большего эти люди не могли мне дать, и смешно было бы на них сетовать за это. Отношения между нами с самого начала установились дружеские. В первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающих грамоте. Едва я высказал однажды – полушутя, полусерьезно – это желание, как экспансивный Никифор Буренков сорвался с нар и, подбегая ко мне, закричал:
– Вот хорошо-то будет! Я, знаешь, Миколаич, давно уж просить тебя хочу, да все не смею… А ты сам надумал… Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьявол ее побери! Приду домой – диву все дадутся: неужто это Микишка? Тот ведь ни аза в глаза не знал, а этот… И знаешь что, Миколаич? Ты выучи меня и рихметике также… Счет мне знать хочется… Я там у них писарем буду – вот окручу-то всех!
Я отвечал Буренкову, что учиться надо не для окручивания людей, а, напротив того, для выкручиванья их из сетей темноты и всяческой неправды. Никифор сконфузился и поспешил уверить меня, что это он "так только, пошутил".
Этот человек был настоящее "дитя природы"; такого неуменья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встречал в другом человеке. Лицо его было лучшим зеркалом его души. Высокий, костлявый, он весь был – страсть и огонь; порывистые движения, постоянно веселый нрав, остроумие, незлопамятность, легкомыслие делали его всеобщим любимцем. В больших серых глазах его и тонких губах, оттененных длинными мягкими усами и желтой козлиной бородкой, светилось, правда, и некоторое лукавство. Он сам иначе не говорил про себя, как "мы, мошенники"… Но стоило немного присмотреться к Никифору, чтобы убедиться, что он не только хороший товарищ во всякого рода "фартовых" предприятиях, но также и рубаха-парень. Он был из "семейских" Верхнеудинского округа староверов беспоповского толка; но раннее знакомство с приисками и природная склонность к товариществу и молодечеству превратили его в одного из героев больших дорог, специальность которых – срезывать чаи в обозах. За это и пошел он с двоюродным своим братом Михайлой в каторгу на четыре года.
Вся камера живейшим образом заинтересовалась мыслью об устройстве школы. Старики подталкивали более молодых, побуждая учиться. Процент грамотных ничтожен в тюрьме. В нашей камере грамотных оказалось всего трое: Семенов, Парамон Малахов и некто Владимиров. Но были и такие камеры, где царила, поголовная безграмотность. Я спросил, кто еще станет учиться. На некоторых лицах читалось страстное желание объявиться, но все молчали.
– Ты, Пестрев, чего же? – кричали на одного совсем молодого паренька, вялого, молчаливого и конфузливого.
– У меня, братцы, память плохая.
– Вот сказал! У нас, что ль, лучше, у стариков? Кому и учиться, как не тебе? Парню девятнадцать лет, в самом что ни на есть соку.