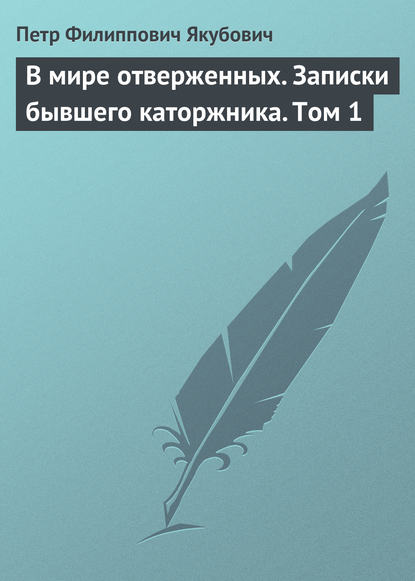По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так будете учиться, Пестрев?
– Хотелось бы… Только память, ей-богу, ничего не стоит.
– Ничего, посмотрим.
– А как же мы учиться-то станем? – вскрикнул вдруг Никифор. – Ведь ни карандашей, ни чернил, ни гумаги у нас нет! Ах ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нет!..
И от бурной радости он вдруг перешел к самому мрачному отчаянию. Я и сам призадумался. Книжка, положим, была – Евангелие; бумага тоже была: эконом продавал арестантам для куренья махорки серую писчую бумагу, причем, следуя инструкции, запрещавшей в тюрьме письменные принадлежности, разрезал ее на уродливо-неправильные полосы. Труднее было придумать, где и как достать карандаш. Парамон Малахов, необыкновенно важно сосавший на нарах свою трубку и о чем-то долго размышлявший, вдруг ударил себя кулаком по лбу и закричал:
– Не будь я Парамон Малахов, коли не достану!..
– Чего?
– И карандаш и… азбучку. Пускай у Шестиглазого шесть глаз, пускай даже больше будет, достану. Надейся, Никишка, на Парамона!
Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Он ходил бондарничать в столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякий раз, как возвращался с работы, Буренков и Пестрев приставали к нему с расспросами… Красавец бондарь разводил только руками и пожимал плечами:
– Ну да уж все-таки достану. Придет такая точка. Не бывало еще, чтоб Парамона хлопушей звали!
Между тем мне пришло в голову воспользоваться углем. Никифор достал прекрасный длинный уголь; я заострил его и начертил на махорочной бумаге несколько первых печатных букв. Восторгам учеников конца не было. Вечером, только что прошла поверка и заперли камеру, все гурьбой бросились, к столу… и обступили меня с Никифором и Пестровым. Лицо первого из них сияло, как хорошо вычищенный медный таз; и с него и с Пестрова уже градом лил пот, хотя ученье еще и не начиналось: оба страшно трусили…
– Ну, Микишка, поддаржись, не ударь в грязь лицом! – одобряли Буренкова Чирок и. Гончаров.
К великому моему удивлению и огорчению всей камеры ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, малоспособными. Долго успокаивал я себя мыслью, что они просто робеют и смущаются, но через неделю с положительностью должен был убедиться относительно Пестрова, что он абсолютно тупой и беспамятный парень. Я не показывал, конечно, и виду, что пришел к подобному заключению, и не уставал каждый вечер, одно и то же вдалбливать ему в голову; но камера самостоятельно пришла вскоре к тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова, казалось, будто у каждого задета была собственная его амбиция…
– Ну и долбежка ж ты, Ромашка! – говорил Чирок. – Я ведь уж кто такой? Все меня пермяком называют, из чурки вытесанным… В лесу я взрос, в тюрьме состарился… А и то ведь уж несколько гуковок затвердил, на тебя глядя. А ты молодой, ты – расейский!
– Брошу же я совсем! – вспыхнув, как порох, объявил Ромашка, и большого труда стоило мне каждый раз уговорить его продолжать опыт ученья.
Зато Никифора камера хвалила и обнадеживала:
– Попом будешь, Никишка, у семейских! Похвалы эти были, конечно, сильно преувеличены. Никифор не был, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему так же и в ученье, как в жизни. Не вглядевшись хорошенько в букву, он моментально выкрикивал ее название, большею частью невпопад. Кроме того, он не любил сознаваться тотчас же в самых явных ошибках и, обладая богатой фантазией, оправдывался сходством между такими буквами, которые, казалось, ничего общего не имели: так, по его словам, м как две капли воды походила на ф, а на з… Нечего и говорить, что вследствие торопливости он постоянно смешивал созвучные буквы: ж – ш, с – з, д – т (я учил по звуковому методу).
– Ну и терпение ж андельское у Ивана Николаевича, – говорили про меня в камере.
Один только Малахов держался на этот счет особого мнения.
– Это не ученье, а баловство одно, – ворчал он, – разве так в старину нас учили? Первое: аз, буки, веди, глаголь, добро… У каждой буквы свое название было, каждая как живая была… А нынче что? Шипят, свистят… Ничего не поймешь! Ж-ж-ж-ж! С-с-с! Просто хоть уши затыкай.
Я старался объяснить Малахову выгодные стороны звукового метода, но напрасно: он был слепым поклонником старины, и к тому же, если упирался на чем-нибудь, то был упрям, как бык.[38 - Спешу, впрочем, оговориться, что учебная практика заставила вспоследствии и меня пойти на некоторые уступки старине. Все буквы носили у моих учеников-арестантов имена хорошо знакомых предметов (б называлось бродней, в – волком, т – туесом), и обстоятельство много помогало успешности занятий, (Прим. автора.)]
– Второе, – говорил он назидательным тоном, – без колотушек учителю обойтись невозможно.
– И верно, Миколаич, – вскрикнул Никифор, – ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай, и как хочешь… Ни словам не скажу, лишь бы за дело.
– Нет брат, и без дела не мешает, – поправлял Парамон, просто так, для науки, для страха. Нас, ты думаешь, как били? Меня дьячок наш сельский учил. Бывало, как ни придем мы к нему, ребятишки, всегда пьянок. И первым делом сейчас же после молитвы всем без разбора волосянку давал… Треплет, треплет, устанет… Ну, теперь давайте, говорит, учиться, ребята! А уж коли бил, тогда надо было отнимать от него: до смерти заколотит! Я раз во время волосянки руку ему укусил, так он об меня всю палку в щепки расхлестал.
– Здоровая ж, Парамон, и тогда у тебя спина была, – смеялись арестанты.
– Ну, а что ж хорошего было в таком ученье? – спрашивал я Парамона.
– Как что? Грамоте выучивались, баловства было меньше.
– Насчет баловства не знаю, а грамоте вот не выучились же вы хорошо, как ни бил вас дьячок? До сих пор чуть не по складам читаете.
– Это я теперь забыл, – отвечал самолюбивый бондарь, видимо начинавший уже раздражаться и с сердцем выколачивавший о нары свою трубку. – А для своего обихода я и теперь еще ладно читаю. Где же нам, дуракам, многоучеными быть?
Впрочем, пропаганда битья, кроме самих учеников, не нашла себе в камере сочувствующих, и Малахов остался в этом отношении одиноким. Особенно ополчился против кулачной расправы с детьми старик Гончаров.
– Да чтоб я своего дитю дал бить? – с искренним негодованием говорил он, расхаживая по камере. – Ни за что! Раз, этак же, еду я верхом на мерине у себя дома. Слышу робячий крик. Гляжу: у самого плетня учитель дерет за уши кожевниковского мальчишку. Ребенку лет семь, а он знай уши ему выворачивает да волосянкой потчует. Вот подъезжаю я, привязываю мерина к плетню и прямо к учителю. "За что?" – спрашиваю. "А тебе какое дело? Я учитель". – "А! ты учитель? Так вот поучись-ка прежде у меня!" – Как подмял его под себя да зачал угощать, так и до сего часу, пожалуй, бока болят…
Я поглядел на огромную медвежью фигуру Гончарова с широким лицом, изрытым оспой, толстым носом, рыжевато-седыми бакенбардами и светлыми большими глазами, над которыми угрюмо свешивались рыжие брови, и подумал, что действительно плохо, должно быть, пришлось учителю…
– И после, бывало, помни, – продолжал Гончаров, – завидишь где его издали, манишь к себе: "Эй, Трофим Евстигнеич, иди-ка сюды, поговорим с руки на руку…" Он сейчас и лыжи прочь навострит! Я смеюсь, кнутом ему вслед грожу!
IX. Малахов и Гончаров
Гончаров и Малахов, видимо, недолюбливали друг друга, хотя явно и не показывали этого, чуя один в другом почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположные во всех смыслах, и мне кажется – именно тою противоположностью, в какой вообще находится Сибирь и ее метрополия: Малахов был пскович, живший в самом Питере в кучерах и получивший там некоторый внешний лоск. С людьми, к которым он чувствовал уважение или расположение, он умел обходиться с утонченной вежливостью, непохожей, впрочем, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшие барские ухватки и словечки. Гончаров был в этом отношении грубоватее, неотесаннее. Зато чисто внешним лоском и ограничивались следы цивилизации, наложенные на Парамона. В душе он оставался настоящим типом вандейца, закоренелого в традиционных взглядах и предрассудках. На беду свою он отличался большим самомнением, считал себя очень умным человеком и думал, что имеет твердые, определенные воззрения на вещи, хотя на самом деле был весьма недалек и даже, быть может, туп. Вот почему, когда речь заходила о каких-нибудь жгучих, задевавших его убеждения вопросах, он становился желчен и забывал всякую деликатность и вежливость. Всякую "многоученость" он с презрением отвергал, и потому, против моей воли и желания, мы нередко вступали в бурные пререкания. Против экспериментальных наук и всяких в глаза бьющих открытий и изобретений он еще ничего не имел; но чуть от практики дело переходило к общим выводам и положениям, покушавшимся, как ему казалось, на вековые святыни человечества, он выходил из себя и лез на стену, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы из-за астрономических вопросов, из-за того, что земля имеет шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоит относительно на одном месте и пр. Парамон обыкновенно долго и молча выслушивал мои рассказы кому-нибудь из арестантов про чудеса природы, разоблаченные современной наукой. Наконец не выдерживал и говорил:
– А кто же из господ ученых лазил на небо, что так хорошо все это узнал?
Я начинал сызнова свои разъяснения, стараясь выражаться возможно толковее и еще понятнее, чем прежде. Он опять терпеливо слушал и потом решал властным и внушительным тоном:
– Вздор все это, чепуха! Что солнце ходит – это я вижу, собственными глазами вижу… Ну, а что земля ходит – этого никто никогда не видал и никогда не увидит! Буду я целый день стоять на одном месте и смотреть вон на ту сопку – и ни на один шаг она не подвинется в сторону.
Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точке; напрасно приводил обычный пример, что когда едешь на машине, то представляется, будто стоишь на одном месте, а земля от тебя убегает. Чем яснее, казалось мне, доказывал я свои положения, тем больше Парамон волновался и сердился… Однажды, думая поразить его, я, с своей стороны, указал ему одно место в книге Иова,[25 - Книга Иова – название одной из книг Библии.] где говорится, что бог ни на чем утвердил землю, повесив ее в воздухе; в ответ на это он отыскал другие места в Библии, говорящие о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звезд. Никаких иносказательных толкований он принимать не хотел и разражался в конце концов страстной филиппикой[26 - Филиппика – гневная, обличительная речь (от названия речей древнегреческого оратора Демосфена против царя Филиппа Македонского).] против науки.
– Вся эта высокоученость гроша медного не стоит! Нынешняя наука дошла до того, что и бога нет!
– Вы пустяки говорите, Парамон, – отвечал я, – нет такой науки, которая бы доказывала, что нет бога; наука не занимается такими вопросами.
– Как! Я сам встречал ученых, которые говорили это!
– А разве и из совсем неученых людей, из арестантов например, – нет таких, что в бога не верят?
– Ну, уж я больше на собственные свои уши полагаюсь. Поверите ли, братцы, – обращался вдруг мой оппонент ко всей камере за сочувствием, – один ученый доказывал мне в Питере, что человек произошел от обезьяны… Да, дурак он! Подумал бы он о том хоть, что обезьяну надо б по крайней мере раз в месяц брить, чтобы она походила на человека!
Все разражались единодушным хохотом, и Малахов глядел победителем. Два-три человека из молодежи были, правда, на моей стороне, но и они боялись слишком явно высказываться в пользу науки; старички же поголовно сочувствовали взглядам Парамона и заодно с ним возмущались внутренно моим вольнодумством. Один только Гончаров посмеивался и уклончиво говорил:.
– Ну, а я всему верю… всему готов верить… Потому вопрошаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные – ничего больше! И в головах у нас есор[39 - есор – мусор. (Прим. автора.)] один!
Гончаров был ум чисто практический, мало интересовавшийся отвлеченными умозрениями, но зато другим дававший в этом отношении полную свободу. Парамон, напротив, был идеалист. Несмотря на солидность манер и всей фигуры (ему было под сорок), он был в высшей степени страстный и увлекающийся человек, ни в чем не знавший меры. Говорил он обыкновенно с пафосом, приподнятым несколько слогом, воодушевляясь и искренно волнуясь, и красноречием своим умел иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда у приходилось говорить уже совсем несуразные вещи. к, однажды он рассказал нам следующую историю.
Возвращался он с товарищем домой из Питера. Заходит в какую-то деревню и в одной хате видит больную женщину, не встававшую уже. несколько лет с постели. Родня больной обращается к прохожим с вопросом, не знают ли они какого средства от этой болезни. Парамон и его товарищ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.
– Вот я и отвечаю: как не знать! Сделайте только так, как я вам скажу. Испеките мне из пшеничного теста куклу. Те, конечно, с полным удовольствием того же дня изготовили мне огромаднейшего статуя. Удалил тогда всех из горницы, положил на больную эту куклу помолился перед образом… Нужно же было что-нибудь для виду сделать! Призываю потом снова всю родных и говорю, что куклу эту я с собой возьму, а что больная вскоре-де будет здорова. Надавали мне тогда на дорогу всяких припасов, даже денег сколько-то дали, и мы отправились с товарищем дальше. Посмеиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Решили и куклу отведать. Вот отламываю я от нее руку… и что же, братцы, думаете? Вижу – кровь!.. Отламываю другую руку – живая человечецкая кровь!.. Вот, ей-богу, правда!.. Испугались мы тут, побросали куклу и все припасы; и убежали. Но что же случилось между тем? В самый тот час, как мы куклу ломали, женщина та, больная-то, с постели совсем здоровой встала, – ну вот, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснят это, а? Пускай попробуют!
Рассказ этот произвел на слушателей огромное впечатление; но меня лично заинтересовал он в другом смысле. Я чувствовал, что в нем не все обстоит благополучно, что тут скрывается один из тех секретов, с помощью которых создаются обыкновенно всякие легенды и народные суеверия. Часто приставал я после этого к Парамону, прося еще раз рассказать историю о кукле; он каждый раз отговаривался, лукаво подсмеиваясь над моим любопытством. Но однажды, уже полгода спустя, в минуту счастливого настроения и расположенности ко мне он прямо мне признался, что насчет крови-то тогда приврал.
– Хотелось бы… Только память, ей-богу, ничего не стоит.
– Ничего, посмотрим.
– А как же мы учиться-то станем? – вскрикнул вдруг Никифор. – Ведь ни карандашей, ни чернил, ни гумаги у нас нет! Ах ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нет!..
И от бурной радости он вдруг перешел к самому мрачному отчаянию. Я и сам призадумался. Книжка, положим, была – Евангелие; бумага тоже была: эконом продавал арестантам для куренья махорки серую писчую бумагу, причем, следуя инструкции, запрещавшей в тюрьме письменные принадлежности, разрезал ее на уродливо-неправильные полосы. Труднее было придумать, где и как достать карандаш. Парамон Малахов, необыкновенно важно сосавший на нарах свою трубку и о чем-то долго размышлявший, вдруг ударил себя кулаком по лбу и закричал:
– Не будь я Парамон Малахов, коли не достану!..
– Чего?
– И карандаш и… азбучку. Пускай у Шестиглазого шесть глаз, пускай даже больше будет, достану. Надейся, Никишка, на Парамона!
Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Он ходил бондарничать в столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякий раз, как возвращался с работы, Буренков и Пестрев приставали к нему с расспросами… Красавец бондарь разводил только руками и пожимал плечами:
– Ну да уж все-таки достану. Придет такая точка. Не бывало еще, чтоб Парамона хлопушей звали!
Между тем мне пришло в голову воспользоваться углем. Никифор достал прекрасный длинный уголь; я заострил его и начертил на махорочной бумаге несколько первых печатных букв. Восторгам учеников конца не было. Вечером, только что прошла поверка и заперли камеру, все гурьбой бросились, к столу… и обступили меня с Никифором и Пестровым. Лицо первого из них сияло, как хорошо вычищенный медный таз; и с него и с Пестрова уже градом лил пот, хотя ученье еще и не начиналось: оба страшно трусили…
– Ну, Микишка, поддаржись, не ударь в грязь лицом! – одобряли Буренкова Чирок и. Гончаров.
К великому моему удивлению и огорчению всей камеры ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, малоспособными. Долго успокаивал я себя мыслью, что они просто робеют и смущаются, но через неделю с положительностью должен был убедиться относительно Пестрова, что он абсолютно тупой и беспамятный парень. Я не показывал, конечно, и виду, что пришел к подобному заключению, и не уставал каждый вечер, одно и то же вдалбливать ему в голову; но камера самостоятельно пришла вскоре к тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова, казалось, будто у каждого задета была собственная его амбиция…
– Ну и долбежка ж ты, Ромашка! – говорил Чирок. – Я ведь уж кто такой? Все меня пермяком называют, из чурки вытесанным… В лесу я взрос, в тюрьме состарился… А и то ведь уж несколько гуковок затвердил, на тебя глядя. А ты молодой, ты – расейский!
– Брошу же я совсем! – вспыхнув, как порох, объявил Ромашка, и большого труда стоило мне каждый раз уговорить его продолжать опыт ученья.
Зато Никифора камера хвалила и обнадеживала:
– Попом будешь, Никишка, у семейских! Похвалы эти были, конечно, сильно преувеличены. Никифор не был, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему так же и в ученье, как в жизни. Не вглядевшись хорошенько в букву, он моментально выкрикивал ее название, большею частью невпопад. Кроме того, он не любил сознаваться тотчас же в самых явных ошибках и, обладая богатой фантазией, оправдывался сходством между такими буквами, которые, казалось, ничего общего не имели: так, по его словам, м как две капли воды походила на ф, а на з… Нечего и говорить, что вследствие торопливости он постоянно смешивал созвучные буквы: ж – ш, с – з, д – т (я учил по звуковому методу).
– Ну и терпение ж андельское у Ивана Николаевича, – говорили про меня в камере.
Один только Малахов держался на этот счет особого мнения.
– Это не ученье, а баловство одно, – ворчал он, – разве так в старину нас учили? Первое: аз, буки, веди, глаголь, добро… У каждой буквы свое название было, каждая как живая была… А нынче что? Шипят, свистят… Ничего не поймешь! Ж-ж-ж-ж! С-с-с! Просто хоть уши затыкай.
Я старался объяснить Малахову выгодные стороны звукового метода, но напрасно: он был слепым поклонником старины, и к тому же, если упирался на чем-нибудь, то был упрям, как бык.[38 - Спешу, впрочем, оговориться, что учебная практика заставила вспоследствии и меня пойти на некоторые уступки старине. Все буквы носили у моих учеников-арестантов имена хорошо знакомых предметов (б называлось бродней, в – волком, т – туесом), и обстоятельство много помогало успешности занятий, (Прим. автора.)]
– Второе, – говорил он назидательным тоном, – без колотушек учителю обойтись невозможно.
– И верно, Миколаич, – вскрикнул Никифор, – ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай, и как хочешь… Ни словам не скажу, лишь бы за дело.
– Нет брат, и без дела не мешает, – поправлял Парамон, просто так, для науки, для страха. Нас, ты думаешь, как били? Меня дьячок наш сельский учил. Бывало, как ни придем мы к нему, ребятишки, всегда пьянок. И первым делом сейчас же после молитвы всем без разбора волосянку давал… Треплет, треплет, устанет… Ну, теперь давайте, говорит, учиться, ребята! А уж коли бил, тогда надо было отнимать от него: до смерти заколотит! Я раз во время волосянки руку ему укусил, так он об меня всю палку в щепки расхлестал.
– Здоровая ж, Парамон, и тогда у тебя спина была, – смеялись арестанты.
– Ну, а что ж хорошего было в таком ученье? – спрашивал я Парамона.
– Как что? Грамоте выучивались, баловства было меньше.
– Насчет баловства не знаю, а грамоте вот не выучились же вы хорошо, как ни бил вас дьячок? До сих пор чуть не по складам читаете.
– Это я теперь забыл, – отвечал самолюбивый бондарь, видимо начинавший уже раздражаться и с сердцем выколачивавший о нары свою трубку. – А для своего обихода я и теперь еще ладно читаю. Где же нам, дуракам, многоучеными быть?
Впрочем, пропаганда битья, кроме самих учеников, не нашла себе в камере сочувствующих, и Малахов остался в этом отношении одиноким. Особенно ополчился против кулачной расправы с детьми старик Гончаров.
– Да чтоб я своего дитю дал бить? – с искренним негодованием говорил он, расхаживая по камере. – Ни за что! Раз, этак же, еду я верхом на мерине у себя дома. Слышу робячий крик. Гляжу: у самого плетня учитель дерет за уши кожевниковского мальчишку. Ребенку лет семь, а он знай уши ему выворачивает да волосянкой потчует. Вот подъезжаю я, привязываю мерина к плетню и прямо к учителю. "За что?" – спрашиваю. "А тебе какое дело? Я учитель". – "А! ты учитель? Так вот поучись-ка прежде у меня!" – Как подмял его под себя да зачал угощать, так и до сего часу, пожалуй, бока болят…
Я поглядел на огромную медвежью фигуру Гончарова с широким лицом, изрытым оспой, толстым носом, рыжевато-седыми бакенбардами и светлыми большими глазами, над которыми угрюмо свешивались рыжие брови, и подумал, что действительно плохо, должно быть, пришлось учителю…
– И после, бывало, помни, – продолжал Гончаров, – завидишь где его издали, манишь к себе: "Эй, Трофим Евстигнеич, иди-ка сюды, поговорим с руки на руку…" Он сейчас и лыжи прочь навострит! Я смеюсь, кнутом ему вслед грожу!
IX. Малахов и Гончаров
Гончаров и Малахов, видимо, недолюбливали друг друга, хотя явно и не показывали этого, чуя один в другом почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположные во всех смыслах, и мне кажется – именно тою противоположностью, в какой вообще находится Сибирь и ее метрополия: Малахов был пскович, живший в самом Питере в кучерах и получивший там некоторый внешний лоск. С людьми, к которым он чувствовал уважение или расположение, он умел обходиться с утонченной вежливостью, непохожей, впрочем, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшие барские ухватки и словечки. Гончаров был в этом отношении грубоватее, неотесаннее. Зато чисто внешним лоском и ограничивались следы цивилизации, наложенные на Парамона. В душе он оставался настоящим типом вандейца, закоренелого в традиционных взглядах и предрассудках. На беду свою он отличался большим самомнением, считал себя очень умным человеком и думал, что имеет твердые, определенные воззрения на вещи, хотя на самом деле был весьма недалек и даже, быть может, туп. Вот почему, когда речь заходила о каких-нибудь жгучих, задевавших его убеждения вопросах, он становился желчен и забывал всякую деликатность и вежливость. Всякую "многоученость" он с презрением отвергал, и потому, против моей воли и желания, мы нередко вступали в бурные пререкания. Против экспериментальных наук и всяких в глаза бьющих открытий и изобретений он еще ничего не имел; но чуть от практики дело переходило к общим выводам и положениям, покушавшимся, как ему казалось, на вековые святыни человечества, он выходил из себя и лез на стену, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы из-за астрономических вопросов, из-за того, что земля имеет шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоит относительно на одном месте и пр. Парамон обыкновенно долго и молча выслушивал мои рассказы кому-нибудь из арестантов про чудеса природы, разоблаченные современной наукой. Наконец не выдерживал и говорил:
– А кто же из господ ученых лазил на небо, что так хорошо все это узнал?
Я начинал сызнова свои разъяснения, стараясь выражаться возможно толковее и еще понятнее, чем прежде. Он опять терпеливо слушал и потом решал властным и внушительным тоном:
– Вздор все это, чепуха! Что солнце ходит – это я вижу, собственными глазами вижу… Ну, а что земля ходит – этого никто никогда не видал и никогда не увидит! Буду я целый день стоять на одном месте и смотреть вон на ту сопку – и ни на один шаг она не подвинется в сторону.
Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точке; напрасно приводил обычный пример, что когда едешь на машине, то представляется, будто стоишь на одном месте, а земля от тебя убегает. Чем яснее, казалось мне, доказывал я свои положения, тем больше Парамон волновался и сердился… Однажды, думая поразить его, я, с своей стороны, указал ему одно место в книге Иова,[25 - Книга Иова – название одной из книг Библии.] где говорится, что бог ни на чем утвердил землю, повесив ее в воздухе; в ответ на это он отыскал другие места в Библии, говорящие о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звезд. Никаких иносказательных толкований он принимать не хотел и разражался в конце концов страстной филиппикой[26 - Филиппика – гневная, обличительная речь (от названия речей древнегреческого оратора Демосфена против царя Филиппа Македонского).] против науки.
– Вся эта высокоученость гроша медного не стоит! Нынешняя наука дошла до того, что и бога нет!
– Вы пустяки говорите, Парамон, – отвечал я, – нет такой науки, которая бы доказывала, что нет бога; наука не занимается такими вопросами.
– Как! Я сам встречал ученых, которые говорили это!
– А разве и из совсем неученых людей, из арестантов например, – нет таких, что в бога не верят?
– Ну, уж я больше на собственные свои уши полагаюсь. Поверите ли, братцы, – обращался вдруг мой оппонент ко всей камере за сочувствием, – один ученый доказывал мне в Питере, что человек произошел от обезьяны… Да, дурак он! Подумал бы он о том хоть, что обезьяну надо б по крайней мере раз в месяц брить, чтобы она походила на человека!
Все разражались единодушным хохотом, и Малахов глядел победителем. Два-три человека из молодежи были, правда, на моей стороне, но и они боялись слишком явно высказываться в пользу науки; старички же поголовно сочувствовали взглядам Парамона и заодно с ним возмущались внутренно моим вольнодумством. Один только Гончаров посмеивался и уклончиво говорил:.
– Ну, а я всему верю… всему готов верить… Потому вопрошаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные – ничего больше! И в головах у нас есор[39 - есор – мусор. (Прим. автора.)] один!
Гончаров был ум чисто практический, мало интересовавшийся отвлеченными умозрениями, но зато другим дававший в этом отношении полную свободу. Парамон, напротив, был идеалист. Несмотря на солидность манер и всей фигуры (ему было под сорок), он был в высшей степени страстный и увлекающийся человек, ни в чем не знавший меры. Говорил он обыкновенно с пафосом, приподнятым несколько слогом, воодушевляясь и искренно волнуясь, и красноречием своим умел иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда у приходилось говорить уже совсем несуразные вещи. к, однажды он рассказал нам следующую историю.
Возвращался он с товарищем домой из Питера. Заходит в какую-то деревню и в одной хате видит больную женщину, не встававшую уже. несколько лет с постели. Родня больной обращается к прохожим с вопросом, не знают ли они какого средства от этой болезни. Парамон и его товарищ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.
– Вот я и отвечаю: как не знать! Сделайте только так, как я вам скажу. Испеките мне из пшеничного теста куклу. Те, конечно, с полным удовольствием того же дня изготовили мне огромаднейшего статуя. Удалил тогда всех из горницы, положил на больную эту куклу помолился перед образом… Нужно же было что-нибудь для виду сделать! Призываю потом снова всю родных и говорю, что куклу эту я с собой возьму, а что больная вскоре-де будет здорова. Надавали мне тогда на дорогу всяких припасов, даже денег сколько-то дали, и мы отправились с товарищем дальше. Посмеиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Решили и куклу отведать. Вот отламываю я от нее руку… и что же, братцы, думаете? Вижу – кровь!.. Отламываю другую руку – живая человечецкая кровь!.. Вот, ей-богу, правда!.. Испугались мы тут, побросали куклу и все припасы; и убежали. Но что же случилось между тем? В самый тот час, как мы куклу ломали, женщина та, больная-то, с постели совсем здоровой встала, – ну вот, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснят это, а? Пускай попробуют!
Рассказ этот произвел на слушателей огромное впечатление; но меня лично заинтересовал он в другом смысле. Я чувствовал, что в нем не все обстоит благополучно, что тут скрывается один из тех секретов, с помощью которых создаются обыкновенно всякие легенды и народные суеверия. Часто приставал я после этого к Парамону, прося еще раз рассказать историю о кукле; он каждый раз отговаривался, лукаво подсмеиваясь над моим любопытством. Но однажды, уже полгода спустя, в минуту счастливого настроения и расположенности ко мне он прямо мне признался, что насчет крови-то тогда приврал.