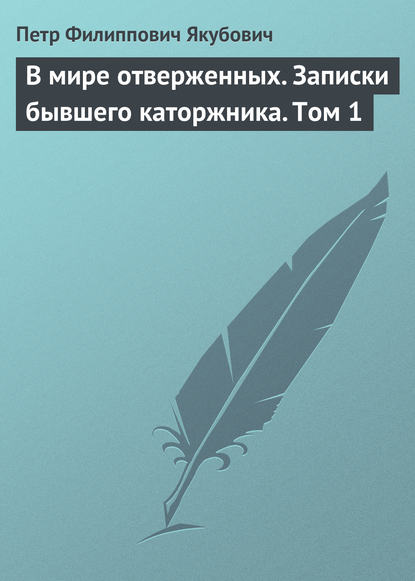По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Там – мир иной, блаженный,
Там есть живые существа!
Это стихотворение, признаюсь, поразило меня… Я поспешил объяснить Владимирову технику стихосложения и посоветовал больше читать. К чтению он по-прежнему не приохотился, а на прочитанное высказывал самые странные и порой дикие взгляды, но стихи продолжал писать. Вскоре он представил мне еще два произведения своей музы, где метрические требования были удовлетворены несколько лучше.
Я слышу голос, голос и привет:
"Пора, пора на вольный божий свет!"
Свободней стало, грудь вздохнула,
И вот когда слеза блеснула
В моих очах… Чем эта доля,
Милей мне воля, воля, воля;
Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на поверке проповедь
Карают человека ведь.
Проходят дни и годы
– Дождусь ли я свободы?!
Когда жена меня больная
И мать под кровом приютит?
Когда страна, страна родная
Мне утешенье возвратит?
Другое стихотворение, из которого помню только первый куплет:
Лес шумит и зеленеет
И шуршит ковыль;
В поле ветер дует, веет,
Подымает пыль, —
не представляло ничего оригинального, отзываясь подражанием Кольцову, Шевченку и другим народным поэтам. Конечно, я не видел в стихах Владимирова чего-нибудь подающего крупные надежды и вскоре даже совсем перестал поощрять его к дальнейшим опытам, но повторяю – открытие это меня приятно удивило. Оказывалось, что в этом неуклюжем, вечно заспанном увальне, жившем столько времени бок о бок со мною и казавшемся мне таким смешным и недалеким, происходил довольно сложный процесс мысли и чувства, в сущности очень близкий и родственный тому, который сам я переживал и чувствовал.
Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на поверке проповедь…
Ах! да не то же ли самое и меня терзало и мучило?
Я слышу голос, голос и привет:
"Пора, пора на вольный божий свет!"
Не мой ли это вопль и не моя ли заветная дума подслушана и так поэтически выражена – и кем же? Медвежьим Ушком!..
Вскоре Владимиров бросил поэзию и опять вернулся к своей обычной физической и умственной спячке. Внутренний мир его снова для меня закрылся и стал непроницаемым. Другого такого замкнутого человека я нигде не встречал. Никакие насмешки и уколы товарищей не могли вывести его из себя и заставить рассказать, кто он такой, откуда родом и за что попал в каторгу. Знали только, что он арестован был как бродяга в Иркутске и как бродяга же осужден на шесть лет временно-заводских работ без права вольной команды. Слышал я еще от Гончарова, будто Владимиров тоболяк, купеческий сын и скрыл родословие, не желая огорчать родителей и надеясь по окончании каторги вернуться домой "чистым" человеком; но точно ли это верно, и если верно, то что именно занесло его в Иркутск и за что он был арестован, этого я и до сих пор не знаю. Сам Владимиров в одну из минут откровенности сказал мне только, что домой по окончании каторги ни за что не воротится, так как ничего хорошего не рассчитывает там найти, а постарается устроиться на поселении. Но возможно и то, что он обманул меня, показав лишь вид, что откровенничает, на самом же деле хотел зачем-то отвести мне глаза от настоящего следа к своему прошлому – бог его знает.
Владимиров имел одно несомненное достоинство, которое резко отличало его от остальной шпанки; последняя вся поголовно была уверена (и только относительно его одного), что у своего брата арестанта, у артели, Медвежье Ушко ни за что крошки не украдет; однажды даже выбрали его в тюремные старосты. Но на этой должности он оказался таким разиней, витая в своем внутреннем, никому не ведомом мире, сидя за решением алгебраических задач или сочинением стихов, так мало обращал внимания на действительность, что мяса в котле у него оказывалось нередко значительно меньше, чем у завзятого вора – старосты: его обкрадывали повара, обвешивал эконом, и вскоре Медвежье Ушко под предлогом болезни принужден был бежать в больницу, чтобы избавиться от общих нареканий. Вообще староство далось ему боком; чрезвычайно дорожа общественным мнением о своей неподкупной честности, он волновался из-за каждого пустяка, в котором видел или подозревал недовольство арестантов собою, и бывал в высшей степени смешон в этом волнении. Религиозный и искренно богомольный, в одну из таких горьких, а для постороннего наблюдателя комичных минут своей жизни он дошел даже до того, что громко высказал сомнение в существовании бога!..
XIII Чирок
Мне живо помнится один вечер. В камере шел обычнейший разговор о том, что "у нас-де дурное правительство – не выпускает арестантов на волю, а держит их до срока в тюрьме и всячески стязает". Кто-то спросил меня: что я об этом думаю? Признаюсь, я затруднился ответом на заданный так прямо вопрос.
– Ну, кого б вы из нас выпустили? – смеясь, спросил Гончаров. – Вот сейчас кого бы на волю выпустили?
Я оглянулся кругом и назвал своего соседа Кузьму Чирка, предмет общих шуток и насмешек, человека, казалось мне, вполне безобидного, попавшего в каторгу по какой-нибудь судебной ошибке. Все разразились оглушительным хохотом при моем ответе.
– Вот нашли черта! Да знаете ль вы, сколько он народу побил? Он не сказывал вам? Вы не смотрите, что он тихонький да ласковый, как теленок. В этой пермяцкой голове много хитрости заложено!
– Не верь, не верь, Миколаич! – закричал Чирок, лукаво ухмыляясь, – правду ты истинную молвил, святую правду. Давно б такого старичонку, как я, выпустить на волю пора!
– Да! чтоб ты еще пятерых спать навеки уклал?
– А разве вы пятерых, Чирок, уложили? – спросил я.
– Слухай ты их, Миколаич, они тебе наскажут. Я совсем безвинно страдаю.
– За что же?
– За брата. Он полюбовницу убил, а я подсобил ему в мужнин погреб ее спустить.
– Да, живую спустить подсобил.
– О, дьявол чернопазый! Чего врешь? Живую… И. не дыхала даже, удавлена была! За что ж бы меня на одиннадцать всего лет засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно и пришел я в каторгу.
– Ну, а расскажи, брат, как ты черемиса-то задавил.
– Какого там еще черемиса?
– Да такого, за воз-то сена…
– Молчи, дьявол, молчи! Ведь он запишет, Миколаич-то…
– Нет, не запишу, Чирок, расскажите.
– Не омманешь?
– Не обману. За что вы его задавили?
– За шею, вестимо… Как же не задавить было проклятого? Поехали мы с Егоршей да с другим еще братишкой, Васькой, по сено… то-ись по чужое. Вот наворотили два огромадных воза и едем домой. А навстречу черемис этот самый. Как тут быть? Что тут делать? Оставить так – донесет ведь шельма, в тюрьму придется идти. Ну, взяли мы и накинули на, шею ему удавку.:
– А расскажи еще, как мужика-то ты за голову сахару укокошил?
– Это еще чего поминать. Робячьим еще делом было, какое это преступленье?
– Все-таки расскажите.
– Приехал к тятьке знакомый мужик в гости, пьяный-распьяный. Покаместь он с тятькой сидел да водку пил, мы, ребятишки, нашли у него в санях кулек с разными сластями. Голова там целая сахару была, пряники… Только хотели было уволочь кулек, глядь – он выходит, хозяин-то то-ись. Еле ноги передвигает, тятька под руки его ведет. Сел кое-как в сани. "Прокати, говорим, дяинька!" Уселись мы с ним и поехали. Лошаденка сама дорогу знает, бежит куда надо. Вот я взял вожжи-то, да и накинул ему, сонному, на шею. Он и захрипел. Мы сейчас лошадь остановили, кулек сцапали – и наубёг. А лошадь домой. Так мертвого его привезла. Ну, тятька-то, надо быть, сдогадался, призвал нас и пригрозил кнутом: "Молчите, сучьи дети!" Так и не узнал никто. Задавился сам, пьяный, да и все тут.
– А сколько вам лет было тогда, Чирок?
– Я по одиннадцатому был году, а Егорша по восьмому.
Там есть живые существа!
Это стихотворение, признаюсь, поразило меня… Я поспешил объяснить Владимирову технику стихосложения и посоветовал больше читать. К чтению он по-прежнему не приохотился, а на прочитанное высказывал самые странные и порой дикие взгляды, но стихи продолжал писать. Вскоре он представил мне еще два произведения своей музы, где метрические требования были удовлетворены несколько лучше.
Я слышу голос, голос и привет:
"Пора, пора на вольный божий свет!"
Свободней стало, грудь вздохнула,
И вот когда слеза блеснула
В моих очах… Чем эта доля,
Милей мне воля, воля, воля;
Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на поверке проповедь
Карают человека ведь.
Проходят дни и годы
– Дождусь ли я свободы?!
Когда жена меня больная
И мать под кровом приютит?
Когда страна, страна родная
Мне утешенье возвратит?
Другое стихотворение, из которого помню только первый куплет:
Лес шумит и зеленеет
И шуршит ковыль;
В поле ветер дует, веет,
Подымает пыль, —
не представляло ничего оригинального, отзываясь подражанием Кольцову, Шевченку и другим народным поэтам. Конечно, я не видел в стихах Владимирова чего-нибудь подающего крупные надежды и вскоре даже совсем перестал поощрять его к дальнейшим опытам, но повторяю – открытие это меня приятно удивило. Оказывалось, что в этом неуклюжем, вечно заспанном увальне, жившем столько времени бок о бок со мною и казавшемся мне таким смешным и недалеким, происходил довольно сложный процесс мысли и чувства, в сущности очень близкий и родственный тому, который сам я переживал и чувствовал.
Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на поверке проповедь…
Ах! да не то же ли самое и меня терзало и мучило?
Я слышу голос, голос и привет:
"Пора, пора на вольный божий свет!"
Не мой ли это вопль и не моя ли заветная дума подслушана и так поэтически выражена – и кем же? Медвежьим Ушком!..
Вскоре Владимиров бросил поэзию и опять вернулся к своей обычной физической и умственной спячке. Внутренний мир его снова для меня закрылся и стал непроницаемым. Другого такого замкнутого человека я нигде не встречал. Никакие насмешки и уколы товарищей не могли вывести его из себя и заставить рассказать, кто он такой, откуда родом и за что попал в каторгу. Знали только, что он арестован был как бродяга в Иркутске и как бродяга же осужден на шесть лет временно-заводских работ без права вольной команды. Слышал я еще от Гончарова, будто Владимиров тоболяк, купеческий сын и скрыл родословие, не желая огорчать родителей и надеясь по окончании каторги вернуться домой "чистым" человеком; но точно ли это верно, и если верно, то что именно занесло его в Иркутск и за что он был арестован, этого я и до сих пор не знаю. Сам Владимиров в одну из минут откровенности сказал мне только, что домой по окончании каторги ни за что не воротится, так как ничего хорошего не рассчитывает там найти, а постарается устроиться на поселении. Но возможно и то, что он обманул меня, показав лишь вид, что откровенничает, на самом же деле хотел зачем-то отвести мне глаза от настоящего следа к своему прошлому – бог его знает.
Владимиров имел одно несомненное достоинство, которое резко отличало его от остальной шпанки; последняя вся поголовно была уверена (и только относительно его одного), что у своего брата арестанта, у артели, Медвежье Ушко ни за что крошки не украдет; однажды даже выбрали его в тюремные старосты. Но на этой должности он оказался таким разиней, витая в своем внутреннем, никому не ведомом мире, сидя за решением алгебраических задач или сочинением стихов, так мало обращал внимания на действительность, что мяса в котле у него оказывалось нередко значительно меньше, чем у завзятого вора – старосты: его обкрадывали повара, обвешивал эконом, и вскоре Медвежье Ушко под предлогом болезни принужден был бежать в больницу, чтобы избавиться от общих нареканий. Вообще староство далось ему боком; чрезвычайно дорожа общественным мнением о своей неподкупной честности, он волновался из-за каждого пустяка, в котором видел или подозревал недовольство арестантов собою, и бывал в высшей степени смешон в этом волнении. Религиозный и искренно богомольный, в одну из таких горьких, а для постороннего наблюдателя комичных минут своей жизни он дошел даже до того, что громко высказал сомнение в существовании бога!..
XIII Чирок
Мне живо помнится один вечер. В камере шел обычнейший разговор о том, что "у нас-де дурное правительство – не выпускает арестантов на волю, а держит их до срока в тюрьме и всячески стязает". Кто-то спросил меня: что я об этом думаю? Признаюсь, я затруднился ответом на заданный так прямо вопрос.
– Ну, кого б вы из нас выпустили? – смеясь, спросил Гончаров. – Вот сейчас кого бы на волю выпустили?
Я оглянулся кругом и назвал своего соседа Кузьму Чирка, предмет общих шуток и насмешек, человека, казалось мне, вполне безобидного, попавшего в каторгу по какой-нибудь судебной ошибке. Все разразились оглушительным хохотом при моем ответе.
– Вот нашли черта! Да знаете ль вы, сколько он народу побил? Он не сказывал вам? Вы не смотрите, что он тихонький да ласковый, как теленок. В этой пермяцкой голове много хитрости заложено!
– Не верь, не верь, Миколаич! – закричал Чирок, лукаво ухмыляясь, – правду ты истинную молвил, святую правду. Давно б такого старичонку, как я, выпустить на волю пора!
– Да! чтоб ты еще пятерых спать навеки уклал?
– А разве вы пятерых, Чирок, уложили? – спросил я.
– Слухай ты их, Миколаич, они тебе наскажут. Я совсем безвинно страдаю.
– За что же?
– За брата. Он полюбовницу убил, а я подсобил ему в мужнин погреб ее спустить.
– Да, живую спустить подсобил.
– О, дьявол чернопазый! Чего врешь? Живую… И. не дыхала даже, удавлена была! За что ж бы меня на одиннадцать всего лет засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно и пришел я в каторгу.
– Ну, а расскажи, брат, как ты черемиса-то задавил.
– Какого там еще черемиса?
– Да такого, за воз-то сена…
– Молчи, дьявол, молчи! Ведь он запишет, Миколаич-то…
– Нет, не запишу, Чирок, расскажите.
– Не омманешь?
– Не обману. За что вы его задавили?
– За шею, вестимо… Как же не задавить было проклятого? Поехали мы с Егоршей да с другим еще братишкой, Васькой, по сено… то-ись по чужое. Вот наворотили два огромадных воза и едем домой. А навстречу черемис этот самый. Как тут быть? Что тут делать? Оставить так – донесет ведь шельма, в тюрьму придется идти. Ну, взяли мы и накинули на, шею ему удавку.:
– А расскажи еще, как мужика-то ты за голову сахару укокошил?
– Это еще чего поминать. Робячьим еще делом было, какое это преступленье?
– Все-таки расскажите.
– Приехал к тятьке знакомый мужик в гости, пьяный-распьяный. Покаместь он с тятькой сидел да водку пил, мы, ребятишки, нашли у него в санях кулек с разными сластями. Голова там целая сахару была, пряники… Только хотели было уволочь кулек, глядь – он выходит, хозяин-то то-ись. Еле ноги передвигает, тятька под руки его ведет. Сел кое-как в сани. "Прокати, говорим, дяинька!" Уселись мы с ним и поехали. Лошаденка сама дорогу знает, бежит куда надо. Вот я взял вожжи-то, да и накинул ему, сонному, на шею. Он и захрипел. Мы сейчас лошадь остановили, кулек сцапали – и наубёг. А лошадь домой. Так мертвого его привезла. Ну, тятька-то, надо быть, сдогадался, призвал нас и пригрозил кнутом: "Молчите, сучьи дети!" Так и не узнал никто. Задавился сам, пьяный, да и все тут.
– А сколько вам лет было тогда, Чирок?
– Я по одиннадцатому был году, а Егорша по восьмому.