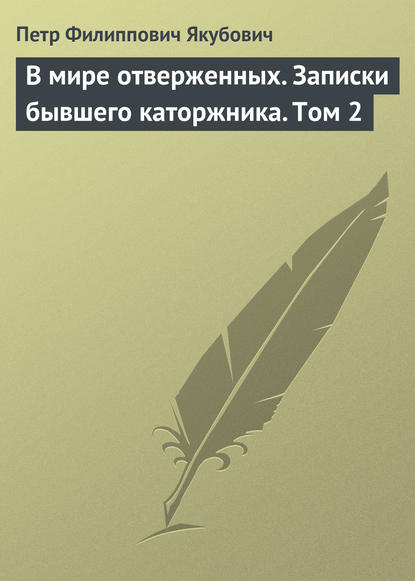По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кобылка совсем, казалось, забыла о тех слухах, которые деятельно распускала раньше на его счет.
Со мной он держался по-прежнему почтительно, почти благоговейно, и как только я начинал заниматься со своими учениками, он присаживался потихоньку к столу и внимательно прислушивался, задавая мне время от времени разные вопросы. Кончилось тем, что я и его пригласил заниматься (раньше он несколько дней учился у Штейнгарта). Оказалось, разумеется, что он многое позабыл из того, что знал когда-то в гимназии; однако стоило ему решить несколько арифметических задач, написать несколько диктантов, и все позабытое быстро восстановилось в памяти: в письме он начал ставить правильно не только букву ять, но даже и знаки препинания. Шустер выказывал большую наклонность вступать в беседы и на другие темы, непосредственно не относившиеся к ученью, и меня поражала каждый раз глубокая искренность, звучавшая в его рассуждениях о необходимости жить честным трудом, о том, какое страшное несчастье попасть в молодые годы в каторгу, и пр. Однажды я заговорил об его прошлом, спросил, что привело его в тюрьму.
– Эх, Иван Николаевич, долго рассказывать! – вздохнул Шустер. – С тринадцати лет ведь началось это со мной… Мне самому ужасно хотелось бы все рассказать вам так, как вот попу на духу рассказывают.
– Почему хотелось бы?
– В душе уж очень много накипело, Иван Николаевич, всяких обид, унижений… Чего ведь только не пришлось мне пережить за эти десять лет! Не скрою от вас, что я и сам очень много пакостей на своем веку наделал… Не назову я себя хорошим человеком, зачем лицемерить! Но только я вполне надеюсь, что я не вовсе еще погибший человек, и попади я в хорошую компанию, я бы еще мог бросить дурные привычки. Ну, вот мне и хотелось бы все рассказать вам… Быть может, вы мне и добрый бы совет подали.
– За чем же дело стало? Хоть сейчас начинайте, я с удовольствием стану вас слушать.
– Нет, Иван Николаевич. Многое мне, пожалуй, стыдно будет вам на словах обсказывать, и я, быть может, стану привирать… А мне пришло в голову на письме описать вам свою жизнь.
– Это будет еще лучше, – с живостью ухватился я за любопытное предложение, – сумеете ли вы только?
– Думаю, что сумею. Вот бумаги только много понадобится…
За бумагой, однако, дело не стало – я согласился доставлять ее в каком угодно количестве, и работа закипела. Мне оставалось лишь удивляться, с какой быстротой Шустер исписывал тетрадку за тетрадкой и передавал мне. Я еле успевал добывать бумагу и карандаши. Содержание этой сохранившейся у меня автобиографии кажется мне довольно интересным, и я хочу целиком привести ее здесь, по возможности в подлинных выражениях. Позволяю себе делать только сокращения и чисто формальные поправки, которых к тому же и не так много. Что всего удивительнее – иностранные слова, в изобилии встречающиеся в произведении Шустера, употребляются им всегда правильно и вполне кстати.
"Отец мой был старого покроя фанатик и, несмотря на то, что много лет жил в Петербурге среди цивилизованных евреев, все-таки не расставался со своими талмудическими суевериями, которые считал законом. Древнееврейский язык, пятикнижие, талмуд и гемору[29 - Пятикнижие, талмуд и геморра – еврейские религиозные книги.] он знал в совершенстве и, занимаясь обучением еврейских детей всей этой премудрости, жил не только безбедно, но даже с некоторым комфортом. Зато остальные все науки он считал вздором, противным талмуду, а по-русски не умел даже подписать своего имени. Немалого труда стоило моей матери, которая была женщиной теперешнего поколения, убедить отца отдать меня в Александровскую гимназию. Но судьба с детства меня преследовала, и вот, как только исполнился мне тринадцатый год – год, в котором каждый еврей вступает в совершеннолетие, – отец взял меня из второго класса под предлогом, что в гимназии меня заставляют писать по субботам, что противно талмуду; он боялся, что благодаря этому я совсем развращусь и перестану исполнять религиозные обряды. Горько мне было бросать ученье и среду образованных людей, но делать было нечего; я вышел из гимназии с самыми пустыми знаниями. Отец определил меня в свой собственный чулочный магазин. Нужно вам сказать, что сам он ничего не понимал в этом деле, но устроил чулочную, мастерскую главным образом для того, чтобы иметь право жить в Петербурге, и много пришлось ему потратить денег сперва на то, чтобы купить диплом мастера в одном виленском еврейском обществе, а затем, не имея в самом деле никаких знаний, сдать в Санкт-Петербургской ремесленной управе проверочный экзамен. После этого он купил десять машин, по четыреста и пятьсот рублей каждую, и нанял мастериц для работы. Как видите, у отца моего водились деньги…
И вот, год спустя, я был в этой мастерской полным хозяином. Но я не чувствовал никакой склонности к торговле и, досадуя на отца за вред, который он мне причинил, относился к делу крайне небрежно: начал заводить знакомства с гуляками и помаленьку таскать деньги из магазина… Отец вскоре все это заметил и стал жестоко наказывать меня, бить, мучить, не давать есть по два, по три дня. Конечно, все эти меры только еще больше озлобляли меня; случалось, что из страха я пропадал на несколько дней из дому, меня отыскивали, и тогда следовала новая, еще более суровая расправа… Побившись со мной таким образом месяца три-четыре, отец в один прекрасный день отдал меня в ученье к знакомому ювелиру с условием, если он выучит меня в два года ювелирному искусству, заплатить ему двести рублей. Новая работа пришлась мне по душе, я начал остепеняться. Мне было у моего хозяина очень хорошо, так как никаких грязных домашних работ, как это бывает обыкновенно с мальчиками-учениками, он не заставлял меня делать. С первого же дня меня стали учить паять, шлифовать, полировать, делать цепочки и пр. Я занимался прилежно. Сам хозяин плохо умел работать, он любил зато погулять, пощеголять и мастерской своей почти не касался; зато у него был подмастерье, который очень хорошо знал свое дело, но за которым водился один грех – любовь к водке и картам. Впрочем, Богданов был честный малый, и хозяин любил его.
Обедать и ночевать я ходил каждый день домой, так как отец не желал, чтобы я ел у хозяина трефное.[30 - Трефное – у верующих евреев недозволенная религией пища.] Так прошло с полгода. Случилось раз, что выпивший Богданов ковал на браслет пять золотников золота и так неловко ударил молотком, что золото выскочило у него из рук на пол и куда-то пропало. Дело было вечером, хозяина не было дома. Мы с Богдановым принялись искать, но ничего не нашли, и он приказал мне идти домой, говоря, что завтра отыщется. Я отправился домой, а Богданов в кабак. Дома я рассказал об этой истории отцу, и отец тотчас же заключил из моего рассказа, что золото украл я, хотя и ничего не сказал мне об этом. Поутру, напившись чаю, я отправился, как всегда, в мастерскую. Богданов еще не вернулся с ночной гулянки, и хозяин стал расспрашивать меня, как это так случилось вчера, что пропало золото. Вдруг входит мой отец. Поздоровавшись с хозяином, он отозвал его тотчас же в сторону и спросил, нашлось ли золото. Хозяин отвечал, что нет. Тогда отец рассказал ему обо всех моих прежних грехах и заявил, что золото украл непременно я и что меня следует наказать. Как не поверить родному отцу? Ювелир предложил мне немедленно сознаться и вернуть покражу, обещаясь простить меня и не прогонять. Но в чем было мне сознаваться? Я плакал, клялся, божился – ничто не помогло; меня тут же разложили и дали пятьдесят розог, после чего хозяин сказал, чтоб я не приходил больше, пока не отдам золота. Однако, приведя меня домой, отец принялся снова бить меня самым жестоким образом. Боже мой! Каких только мучений я тут не перенес, и если бы мать не позвала соседей и меня не отняли бы, я бы умер, наверно, у него под руками; меня и так чуть тепленького унесли…
На четвертый после того день приходит к нам мой хозяин, извиняется и рассказывает отцу, что утром мыли пол в мастерской и под половиком нашли закатившееся в щель золото. Но отец отвечал, что это еще не доказательство моей невиновности: я мог взять золото и спрятать туда, а поэтому нечего жалеть, что меня наказали; это послужит мне хорошим уроком на будущее время… Хозяин тем не менее велел мне одеться и ехать с ним в его мастерскую. Там он обласкал меня, и все пошло по-старому.
Как раз накануне рождества один господин приносит серебряное портмоне и просит его вызолотить. Работы у нас было очень много, и хозяин, положив портмоне на верстак, сказал, что после праздников исполнит заказ. Прошли и праздники. В самый день Нового года я был дома и никуда не выходил. Утром следующего дня хозяин велел мне отшлифовать и вычистить портмоне.
Я посмотрел на верстак – его там не было; заглянул в ящик – и там не было; пересмотрел все коробочки, спросил у Богданова и, наконец, у самого хозяина. Последний сам перерыл всю мастерскую и тоже ничего не нашел. Тогда он подозвал меня и спросил, не я ли взял. Если я взял и теперь, возвращу назад, то он простит меня,, и ни отец мой, ни кто другой никогда ничего не узнают. Я, конечно, отпирался и божился. Тогда хозяин приказал Богданову никуда не выпускать меня, из квартиры. Вечером пришел к нему смотритель арестного дома (должно быть, его нарочно позвали). Долго они сидели вдвоем в кабинете хозяина и о чем-то беседовали, потом позвали меня. Хозяин объявил мне, что если я не сознаюсь, то смотритель немедленно арестует меня и увезет в тюрьму. А смотритель прибавил: "Закую тебя в ручные и ножные кандалы и заморю голодом. Лучше, братец, сознайся и скажи, где спрятал портмоне". Мне стало страшно… Я тогда не знал еще, что меня не имели права арестовать, когда никаких улик не было, и я поверил угрозам. Чтобы как-нибудь избежать тюрьмы, и отсрочить наказание, я объявил со слезами на глазах, что действительно украл портмоне и спрятал на дворе в снегу. Смотритель тогда засмеялся и со словами: "Вот так-то будет лучше!" простился и уехал домой. А хозяин зажег фонарь и повел меня в указанное мной место. Долго мы там рылись без всяких результатов, но я продолжал уверять хозяина, что не ошибся и спрятал именно в этом месте. Наконец он отложил поиски до утра и велел мне ночевать эту ночь у него, Мне это не совсем понравилось, но делать, конечно, было нечего. Оказалось, что моя шапка и пальто были уже спрятаны, и за мной тщательно следили. Утром, едва только рассвело, хозяин послал служанку за моим отцом, и тут только я понял, что наделал вчера своим глупым сознанием. Улучив удобную минуту, я выскочил, в чем был, на улицу и побежал куда глаза глядят по Екатерингофскому проспекту. Добежав до Садовой, я остановился. Утро было холодное, трещал январский мороз, а я был без шапки и в одной рабочей блузе. У меня слезы проступали из глаз от стужи, обиды и горя: в кармане не было ни копейки денег, не было и друзей… Но домой я решил не возвращаться. Завернув в Малков переулок, я очутился возле еврейской синагоги. На мое счастье, служба уже отошла, и там был только один слепой старик. Пройдя незамеченным, я забрался под "бимен"; так называется стоящее посредине синагоги возвышение вроде кафедры, под которым устраивается маленькая кладовая для хранения разных рваных книг и листов ("шеймес"), По еврейским законам нельзя их бросать зря, но их тщательно собирают и в известное время года отвозят на кладбище и там зарывают в землю. Вот туда-то я и залез и запер за собою дверцу. Отец, узнав обо всем от хозяина, выбежал из мастерской, взял извозчика и поехал меня искать по городу. Кто-то дорогой сказал ему, что видел, как я повернул в Малков переулок. Отец отправился тотчас же в синагогу, решив, что больше мне некуда деться; но синагога оказалась уже запертой. Тогда отец рассказал обо всем сторожу и упросил его отворить синагогу. Боже мой! Сердце у меня замерло, когда я услыхал шаги и голос отца и понял, что он роется по ящикам и смотрит под скамьями… Я уже думал, что вот-вот он найдет меня, и все глубже зарывался в рваные листы и книги. Но гроза на время прошла, и я слышал, как отец велел сторожу дать ему знать, как только я появлюсь. Сторож запер на замок дверь, и я опять вздохнул свободнее. Но скоро я почувствовал страшный голод, утолить который было, разумеется, нечем, и с досады я проспал несколько часов. Помню, что это было в пятницу. Меня разбудил сильный шум, поднявшийся в синагоге: это евреи сошлись на вечернюю молитву ("маарив"). Она окончилась, впрочем, скоро, и сторож позвал дворника, чтобы тот погасил свечи (сами евреи не могут на субботу гасить огонь) и оставил горящей только одну большую свечу, поставленную в помин усопшего, – ее нельзя было тушить ("иор цейт"). Убравши все как следует, сторож вышел и опять запер дверь на замок. Впрочем, я хорошо знал, что замок этот висит только для славы и. от одного толчка может разлететься в прах. Некоторое время я чутко прислушивался – все было тихо кругом, и я решился наконец вылезти из-под бимена и осмотреться. За стенкой раздавался стук тарелок и говор людей: это живший здесь же сторож ужинал со своим семейством. Голод мучительно давал мне о себе знать; надо было во что бы то ни стало выбраться из синагоги и куда-нибудь уехать. Но у меня не было ни теплой одежды, ни денег. Я увидал тогда на стене три жестяные кружки, в которые кладется денежный сбор, и решил прежде всего поживиться, этими деньгами. Хорошо зная еврейское поверье, что с пятницы на субботу мертвые приходят в синагогу молиться, и будучи уверен, что ни один фанатик не решится в это время войти в нее, я не стал дожидаться, пока у сторожа уснут: быстро сломал кружки и забрал себе в карманы все серебро и медь, какие там находились (потом оказалось – около двенадцати рублей); потом взял скамейку и со всего размаху ударил ею в дверь. Плохо державшийся пробой вылетел, дверь растворилась настежь, и я выбежал в коридор… Но тут случилось совсем не то, чего я ожидал, У сторожа был в это время в гостях какой-то молодой еврей, и когда послышался в синагоге шум, насмерть перепугавший сторожа и его семью, этот молодой человек не струсил, взял, несмотря на шабаш, свечку, выбежал в коридор и схватил мнимого мертвеца за шиворот. О каком-либо сопротивлении с моей стороны не могло быть и речи – я был безоружен, – и я повиновался. Молодой человек повел меня к сторожу, но понадобилось по крайней мере полчаса времени для того, чтобы сторож пришел в себя и поверил, что это был я, а не злой дух, принявший мой образ… Опамятовавшись, он оделся и пошел дать знать о происшедшем моему хозяину, хорошо зная, что ему за это перепадет на чай. Между тем арестовавший меня молодой еврей зорко караулил меня и хотел даже дать мне есть; но сторожиха запротестовала, сказав, что я уголовный преступник и что меня грешно кормить.
Явился наконец и мой хозяин. Вскричав извозчика, он повез меня к себе и дорогой все уговаривал сказать, куда я дел портмоне (в снегу его нигде не оказалось), причем обещал не только защитить от гнева отца, но даже и наградить меня. Но я отказался от прежнего своего показания, сказав, что солгал тогда из страха перед смотрителем тюрьмы, а что на самом деле я ничего не крал и ничего не знаю. Приехавши в мастерскую, хозяин сейчас же послал за моим отцом. Явился отец и, узнав, что я опять от всего отперся, потребовал, чтобы хозяин отпустил меня домой, где он скорее добьется от меня правды. Я хорошо понимал, какими средствами станет он добиваться правды, и начал умолять хозяина не отпускать меня. "Я не вправе тебя задерживать, – отвечал хозяин, – так как не имею против тебя никаких улик. Вот если бы ты сознался, тогда другое дело, тогда я оставил бы тебя". И я опять решился лучше наклеветать на себя, чем попасть отцу в руки. Напротив нашей мастерской жил переплетчик-немец, и у него находился в ученье мальчик. Вспомнив про него, я сказал хозяину, что, точно, украл портмоне и передал на хранение этому мальчику. Хозяин обрадовался моему показанию, похвалил меня и даже спросил, ел ли я сегодня. А я умирал от голода. Он дал мне выпить рюмку водки и съесть кусок бутерброда, а затем, заперев меня в чулане, вместе с моим отцом отправился к переплетчику-немцу; был уже двенадцатый час ночи. Переплетчик, выслушав рассказ, предложил гостям произвести обыск в вещах своего мальчика, и когда в них ничего не нашлось, разбудил мальчика, который давно уже спал, и начал допрашивать. Мальчик клялся и божился, что ничего от меня не брал, что даже и не видел меня накануне Нового года. Так, ничего не добившись, хозяин с отцом вернулись назад в мастерскую. Отец снова стал требовать меня к себе домой, но хозяин, в виду моего сознания, пригласил полицейского надзирателя. На вопрос полицейского, действительно ли я украл портмоне, я дал утвердительный ответ, и после этого отцу моему ничего не оставалось, как отправиться домой одному, меня же отвезли в полицию. В полиции прежде всего сняли с меня пальто и шапку и произвели обыск, причем отобрали и украденные мной в синагоге деньги. Их записали в книгу; затем отворили какую-то дверь, толкнули меня туда и дверь опять заперли на замок. В новом моем помещении меня сразу поразил страшно спертый воздух и скверный запах, исходивший от раскрытых параш. Лампа без стекла неимоверно чадила и еле освещала огромную камеру. Груда человеческих тел лежала беспорядочно на нарах и валялась на голом полу, в грязи, в рваных рубахах и в сапожных опорках на босую ногу. Со мной чуть не сделалось дурно, и я начал громко стучать в дверь и требовать холодной воды. Тогда один из арестованных, проснувшись, вскочил на ноги и закричал на меня: "Ты что тут за храп явился? Люди спят, третий час ночи, а ты шуметь вздумал? Смей только пикнуть, так мы тут по-свойски с тобой разделаемся". Понятно, что я не стал больше стучать, а, отойдя в угол, простоял до утра на одном месте, так как сесть или лечь было решительно негде. Поутру долго пришлось мне пробыть в канцелярии частного пристава, пока дошла очередь до меня. И здесь я впервые увидал, как пристав производил собственноручную кулачную расправу с сидевшими за пьянство. Когда он подошел наконец ко мне, я объявил ему, что не крал портмоне, а взял на себя это преступление единственно для того, чтобы не попасть в руки к отцу и не быть им наказанным. Услыхав это, пристав страшно рассердился, затопал на меня ногами, стал кричать и браниться непечатными словами и ударил меня по лицу так сильно, что из носу у меня фонтаном брызнула кровь. Он уже хотел отправить меня назад в часть, но тут явился мой отец; не знаю, о чем говорил он с приставом, так как я находился в передней, – только несколько минут спустя пристав крикнул меня и, когда я вошел, сказал: "Отпускаю тебя на поруки к отцу, но в будущую субботу ты должен явиться сюда, и тогда я составлю протокол". У меня сердце так и упало, когда я взглянул на спокойно стоявшего тут же отца: я знал, что он сделает со мной что-нибудь ужасное… Приведя меня домой, отец прежде всего связал мне руки и привязал меня к стене, говоря, что потолкует со мной после обеда, и так как дело происходило в субботу, то умыл себе руки, выпил водки и сел обедать "цоленд" (пищу, сваренную накануне, так как в субботу евреи не могут варить и стряпать). Он ел при этом так спокойно, как будто ничего и не случилось. Мать, все время глядевшая на меня со слезами на глазах, вздумала было и мне дать поесть, но отец схватил со стола нож и погрозил тут же покончить с ней и со мной, если она станет мешаться не в свое дело. Пообедав хорошенько, он встал и подошел ко мне. "Ну, теперь я с тобой поговорю. Скажи-ка мне, голубчик, куда ты девал портмоне". Я стал божиться, что не брал его, но он не захотел и слушать меня. "Ты рассказывай эти сказки приставу и своему хозяину, меня же ты не надуешь. Я тебе не поверю. Ты лучше скажи мне, куда ты его спрятал?" С этими словами он повалил меня на пол и начал бить подборами сапог по чему попало – по ребрам, по груди и голове. Тут я сообразил, что надо как-нибудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время и убежать: Я начал просить его, чтобы он перестал бить, уверяя, что тогда скажу всю правду. Отец остановился, и я с окровавленным лицом поднялся с полу. "Действительно, я украл портмоне, – сказал я, – и продал его одному крещеному еврею". Отец сейчас же оделся и велел мне вести себя к этому еврею. Я умылся (потому что был весь в крови) и, собрав последние силы, пошел, сам не зная, что из всего этого может выйти. Я уж и тем был счастлив, что хоть на один час отсрочивалась страшная пытка.
В Александровском рынке торговал старыми вещами один крещеный еврей; был также слух, что он принимал и краденое. Вот на него-то я и показал, хотя и в лицо-то даже плохо знал его. Мы пошли прямо к нему в лавку. Увидав нас, лавочник, видимо, испугался, так как хорошо знал, что еврей-фанатик, каким был мой отец, не придет покупать в субботу. "Ну, говори этому мошеннику прямо в глаза", – обратился ко мне отец. Мне было невыносимо совестно обвинять совершенно незнакомого человека, но отступать уже было поздно. Собрав все нахальство, к какому только я был способен в то время, и не сморгнув глазом, я сказал: "Отдайте портмоне, которое я вам продал за три рубля. Мой отец возвратит вам ваши деньги назад, потому что я украл эту вещь у своего хозяина, но теперь я сознался, и вещь надо возвратить". Лавочник с неподдельным изумлением вытаращил глаза: "Помилуйте, вы ошиблись… Я в первый раз вас вижу!" Но я сказал на это: "Разве вы забыли прекрасное серебряное портмоне, которое я принес вам под Новый год? Я знаю, вам жаль расстаться, потому что оно стоит в десять раз дороже". И видя, что он молчит, продолжая удивляться, прибавил: "Будет вам притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы заявим сейчас в полицию, и вас арестуют". Я говорил так искренно и так настойчиво, что отец вполне уверился в правдивости моего показания и, с своей стороны, обратился к торговцу сначала с ласковыми убеждениями, а потом и с угрозами. Но, понятно, из всего этого ничего не вышло. Очнувшись от минутного столбняка, вызванного крайним изумлением, торговец начал кричать на нас и выгнал вон, грозясь, в свою очередь, нас арестовать. Были уже сумерки, и отец, опасаясь прозевать службу, повел и меня с собой в синагогу. Дорогой он опять начал сомневаться и говорил мне: "Невозможно ни в чем тебе верить! Ты ведь в десятый уже раз сознаешься, а потом отпираешься, и каждый раз выходит что-нибудь новое. И как это не можешь ты жить без приключений? Чего тебе не хватает, злой мальчик? От кого выучился ты воровать? В нашем роду не было воров. Я старался тебя воспитать как следует, выучил пятикнижию, талмуду, геморе, я не жалел на тебя денег, а ты вот чем мне отплачиваешь! Это все оттого происходит, что ты водишься больше с русскими, а священного нашего закона не исполняешь". Он так разжалобил меня своими речами, что я чуть было не упал ему в ноги и не признался во всем: но удержался, сообразив, что это ни к чему бы не повело, так как признаться мне было не в чем. Так мы дошли до синагоги. Тут нас окружила толпа ребятишек, и отец сдал меня им, приказав хорошенько караулить. Они облепили меня, как пчелы, и стали жестоко насмехаться, так что я готов был провалиться сквозь землю от стыда и бессильной злости: я был один, а их несколько десятков человек. Между тем на отца моего, как только он зашел в синагогу, тоже набросилась целая орава евреев: они тормошили его и наперерыв рассказывали, как я ночью разломал кружки и украл священные деньги. Такого удара отец мой не ожидал! Он тотчас же призвал меня и спросил при всех, верно ли это новое обвинение. У меня дрожали ноги от страха и язык прилипал к гортани, но не мог же я отрицать явного факта, и я сознался… Отец пришел тогда в такое бешенство, что схватил скамью и тут же хотел покончить со мной, но ему не дали этого сделать. Спросив у "габая",[31 - Габбай – староста синагоги, который ведает также сбором пожертвований.] сколько было в кружках денег, и узнав, что около пятнадцати рублей, он сказал, что заплатит за меня четвертной билет. После этого началась служба. По окончании ее отец повел меня домой, всю дорогу крепко держа за руку…
Дома он раздел меня донага и веревкой привязал за руки и за ноги к столбу, так, чтобы я не мог шевелиться; затем взял трость и начал ею меня бить, приговаривая: "Теперь я уж ни в чем. тебе не поверю, и потому не думай, что как только ты сознаешься, я тебя отпущу. Нет, мне теперь все равно, украл ты портмоне или нет, довольно и того, что ты меня опозорил в синагоге перед всем обществом. Значит, можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до тех пор, пока ты не кончишься у меня под руками. Я уж буду по крайней мере знать, что сам убил тебя, и ты не будешь больше ни воровать, ни позорить меня". Он поставил около себя графин водки и с каким-то странным наслаждением в лице продолжал мучить меня. Не вытерпев, я начал кричать; тогда он преспокойно взял платок и завязал мне рот так крепко, что мне не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за прежнюю работу, глотая по временам водку из чайного стакана. И, конечно, он сдержал бы свое слово – убил бы меня, если бы не пришла в это время из гостей ничего не подозревавшая мать и не увидала происходившего: отец, сильно уже охмелевший, сидел к ней спиной в одной рубашке и в брюках и хладнокровно, методически работал тростью, а я, привязанный к столбу и с заткнутым ртом, висел без малейшего движения, не издавая даже стона… Всплеснув в ужасе руками, она кинулась на двор, вскричала дворников и нескольких соседей и при их помощи с великим трудом успела вырвать меня из рук обезумевшего отца и развязать. Меня унесли без чувств в другую комнату и положили на диван. Мать послала за доктором, ему долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть к жизни. Предложили мне пищу, но хотя целые уже сутки я почти ничего не держал во рту, мне было теперь не до еды. Боли я, правда, никакой не чувствовал, но все тело мое было исполосовано и изрублено в куски; окровавленное мясо висело клочьями…
Позвольте мне здесь остановиться до завтра. Я не могу писать об этом без содрогания, не произнося проклятия родному отцу! Ночью со мной сделался бред. Доктор, осмотрев меня во второй раз, объявил, что со мной начинается горячка… Две недели пролежал я без памяти, и когда пришел потом в сознание, то чувствовал такую страшную слабость, что еще целых полтора месяца пролежал в постели. Отец стал обращаться со мной гораздо ласковее, и когда я настолько оправился, что мог разговаривать, объявил мне, что портмоне нашлось. Я полюбопытствовал узнать, каким образом, и он рассказал мне следующее. Портмоне был именной, с вырезанной на крышке фамилией владельца, и вот как-то случилось, что в то время, как я лежал в бреду, к одному часовых дел мастеру, хорошему приятелю моего бывшего хозяина, заходит какой-то господин купить серебряную цепочку и, расплачиваясь за нее, вынимает из кармана портмоне: часовщик сразу увидал на нем ту фамилию, которую называл ему мой хозяин. Не подав покупателю вида, что он что-либо заподозрил, часовщик завел с ним длинный разговор, а сам тем временем послал кого-то в участок, а также и к моему хозяину. Явилась полиция, начали расспрашивать неизвестного господина, у кого и как приобрел он портмоне: он немного смешался, но все-таки объяснил, что где-то купил. Тем временем подоспел и мой бывший хозяин. Он сразу признал не только портмоне, но и самого господина, который накануне Нового года, то есть в день пропажи, заходил к нему в мастерскую и торговал запонки, но не купил их. В участке в нем сразу узнали известного жулика, который ходил по магазинам и торговал разные вещи, причем никогда ничего не покупал, а лишь пользовался случаем кое-что стянуть. Вскоре он сам сознался и в краже портмоне, сыгравшего такую печальную роль в моей жизни. "Да, в этом случае ты невинно пострадал, – заключил отец свой рассказ, – это правда. Но ты украл деньги в синагоге, но ты, может быть, хотел украсть у хозяина золото… Да и раньше за тобой водились эти грехи… Словом, ты не вообрази себя непорочным как голубь. Слава твоя уже гремит, все знакомые указывают на тебя пальцами. Ты должен об. этом хорошенько подумать. Жил ты у меня смирно и честно, и никто тебя не знал, а теперь все тебя называют вором, и даже полиция тебя уже знает. Но я тебе вот какую сказку расскажу. В старые времена жил один нищий. И было ему уже девяносто лет, и стал он очень дряхл и слаб. И думает нищий: "Видно, пора мне помирать… Только как же это я прожил девяносто лет, а теперь вдруг возьму да и помру? И никто на свете не будет знать про то, что я когда-то жил. Обидно ведь это!" Достал нищий последние свои гроши, побрел в лавку и купил большой старинный меч. С этим мечом он забрался в сад к богатому и знаменитому в той стране вельможе. И вот, когда вельможа вышел прогуляться в сад, старик выскочил из своей засады и замахнулся на него мечом… Но свита вельможи, разумеется, тотчас же схватила преступника и вырвала из его рук меч. Тогда вельможа велел подвести старика к себе, гневно взглянул на него и спросил: "За что ты хотел меня убить? Разве я зло тебе какое сделал?" – "Нет, – отвечал нищий, – зла ты мне никакого не сделал, а только собрался я умирать, и захотелось мне оставить по себе какую-нибудь славу, чтоб народ говорил, что вот жил такой-то знаменитый вельможа и такой-то нищий хотел его убить". Засмеялся тогда вельможа и отпустил нищего домой без всякого наказания: "Иди, старый дурак, домой – видно и вправду пора тебе помирать!" Ну вот и ты, молодой дурак, захотел, видно, славы, как этот нищий? Только я тебе скажу, что ты гораздо глупее старого нищего, потому что тот на твоем месте уже не стал бы воровать разных игрушек, а украл бы что-нибудь такое, за что стоило бы по крайней мере отвечать". Такие поучения читал мне родной отец, и, признаюсь, они глубоко залегли мне в душу…
Оправившись от болезни, я перестал уже ходить к своему хозяину ювелиру: после двух несчастий, случившихся в самое короткое время, ему уж стыдно было принять меня в третий раз, и я остался дома. Отец взял с меня честное слово, что я больше не стану воровать, и определил в свой магазин стоять за конторкой, получать и отправлять товар – словом, сделал меня полным хозяином. Но я должен вам сознаться, что слова своего я сдержать не мог, хотя и долго крепился. У меня завелись знакомства с приказчиками и разной купеческой молодежью, я стал чувствовать нужду в расходных деньгах, мне хотелось побывать и в театре, и в зоологическом саду, и угостить товарищей, а отец был страшно скуп, и в награду за свою честность я не видал от него ни одной копейки. И вот я начал воровать, но так умно, что сводил всегда концы с концами и ни разу не был замечен. Так прошел еще целый год.
У нас была обширная торговля, и много было разносчиков, бравших у нас товар за известный процент. С одним из таких разносчиков, старорусским мещанином Иваном Брусницыным, молодым человеком лет двадцати двух, я особенно сдружился. Это был довольно недалекий и в трезвом виде замечательно смирный парень, совершенно еще не испорченный, так что дружба с ним, казалось бы, не сулила мне ничего дурного. Но на деле вышло не так. У Ивана Брусницына был старший брат, живший во второй роте Измайловского полка в старших дворниках у действительного статского советника Красинского, родом поляка. Красинский этот был страшный богач, имел собственный дом, но, неимоверно скупой, он жил в, третьем этаже в двух комнатах, а все остальное сдавал квартирантам. Старик был холост, но у него жила красивая молодая девушка, одновременно игравшая роль и горничной, и кухарки, и экономки, и даже, говорили, хозяйки. Младший Брусницын часто ходил в гости к своему брату в Измайловский полк и там познакомился с Лизаветой (так звали эту девушку).
Однажды в первых числах мая – я только что запер вечером магазин – приходит ко мне Брусницын, грустный и задумчивый, и говорит: "Знаешь что, пойдем в портерную, я тебе кое-что расскажу". У нас друг с другом не было никаких секретов. Придя в портерную, мы потребовали четыре бутылки пива, налили себе по стакану, и Иван начал свой рассказ. "Ты, поди, ведь знаешь, Мишка, как врезалась в меня Лизавета… Ну, я частенько хожу к ней, когда генерала не бывает дома. И вот сегодня она мне рассказала, что на днях они едут в Старую Руссу на минеральные воды. А генерал, между прочим, берет с собой двадцать пять тысяч рублей денег… Потом он уедет на три дня в Москву, а ее одну оставит эти деньги караулить… Ну и что же она удумала, Лизавета, как ты полагаешь, брат? Она предлагает мне тоже поехать в Старую Руссу и, когда генерал будет в отлучке, в Москве, прийти к ней и забрать эти деньги, а уж за последствия она сама берется отвечать. Так чисто, мол, все обделано будет, что и подозрения даже не упадет на меня. Просит все это хорошенько обдумать и завтра ответ дать, Я сдуру-то сказал ей, что подумаю, а теперь вот всего в жар и в озноб кидает, ведь в случае неудачи тут бог знает чем пахнет!" Когда он сказал эти слова, меня самого, в жар и в озноб кинуло, только не от трусости, конечно. Я подумал: двадцать пять тысяч! Ведь это такой капитал, из-за которого многим рискнуть можно… Отцовская притча попала, видно, на благодарную почву… Распив с приятелем четыре бутылки пива, я пригласил его в ресторан ужинать и там принялся доказывать ему всю выгоду предприятия, приводя на вид, что с такими деньгами он может из простого разносчика сделаться купцом первой гильдии и что такой счастливый случай выпадает на долю одного человека из миллиона; я просил его взять меня в товарищи и обещал все устроить так, как следует. После долгих уговариваний он согласился. Мы условились, что он завтра же объявит своему брату, будто уезжает на побывку домой, а пятнадцатого мая будет уже готов и станет дожидаться меня на вокзале Николаевской железной дороги. Сам я решил обмануть отца следующим образом. В Старой Руссе у него было несколько должников, давно уже не плативших ему по векселям; много раз он собирался туда поехать, но собраться никак не мог. Поутру следующего дня я завел с ним разговор об этих неисправных должниках, и говорил с намеренным раздражением; я наперед знал, что он опять скажет о своем недосуге, болезни и пр. И вот, едва только он сказал это, как я предложил себя к его услугам: если он дозволит, я съезжу в Старую Руссу и припугну должников, да кстати посмотрю, не выгодно ли там будет поторговать во время предстоящей ярмарки. Отец охотно согласился на мое предложение, назначил мне на дорогу тридцать рублей и отпустил на две недели. В назначенный день я попрощался с родителями, нанял извозчика и отправился на вокзал".
XV. Падение идет быстрыми шагами
"Брусницын уже поджидал меня.
Дорогой я не заговаривал с ним о деле, так как видел, что он не в духе, хмурится, нервничает, и, чтоб развеселить его, рассказывал разные забавные истории и анекдоты. На каждой почти станции мы пили чай, и я на свой счет угощал его винами и закусками. В седьмом часу утра мы приехали в Старую Руссу. Брусницын спросил меня, в какой из двух гостиниц мы остановимся – в "Лондоне" или "Петербурге". Мое воображение все время деятельно работало; во мне проснулись необыкновенная деловитость и проницательность; я заранее решил все предусмотреть и со всех сторон себя обезопасить; никогда в жизни не видав Старой Руссы, я уже знал ее из одних разговоров с товарищем как свои пять пальцев и потому, не думая долго, объявил, что нам следует остановиться в "Петербурге": я рассчитал, что эта гостиница, стоящая на набережной против собора, находится на, менее людном и шумном месте… В "Петербурге" я нанял две комнаты с отдельным ходом за два рубля в сутки, и сказал Ивану, чтобы он всем своим родным говорил, что приехал сюда с хозяйским сыном по торговым делам. После этого мы разошлись. Денег я в этот день ни от кого из отцовских должников не получил – все отговаривались плохой торговлей и сулились заплатить в скором времени. Весь следующий день мы бродили с Брусницыным без всякого дела по городу, осматривая торговую площадь и базар. На базаре нас встретил квартальный надзиратель и сразу узнал по моему лицу, что я приезжий. Он подошел ко мне и спросил, кто я такой, откуда и есть ли у меня билет. Билет мой оказался в порядке, и, просмотрев его, он велел только прислать его в часть для прописки. В этот день я получил от должников-евреев триста сорок рублей и немедленно отправил их отцу, не оставив себе ни копейки, несмотря на то, что собственные мои деньги уже подходили к концу; мне хотелось, чтобы отец вполне успокоился на мой счет и дал мне свободу жить здесь сколько понадобится. Я рассуждал так: я возьму часть отцовских денег, потрачу их, а вдруг наша затея не выгорит, и мне нечем будет пополнить сделанную растрату? Тогда я должен буду из-за каких-нибудь пустяков навсегда лишиться доверия отца, которое мне так необходимо. И вот я стал придумывать средство раздобыть денег из другого источника.
Вечером я пошел в парк и был там в театре, но все время меня неотступно грызла одна и та же мысль. При выходе из парка я зашел в магазин Попова купить папирос, и здесь-то пришла мне в голову безумная на вид, но вместе и блестящая идея – обокрасть этот богатый магазин. Но как осуществить подобный план? Город был мне мало знаком; товарищей для такого дела у меня не было, потому что Брусницын, конечно, ни за какие миллионы на него бы не пошел, и даже говорить с ним об этой затее было немыслимо; в довершение всего сам я ни разу еще в жизни не пытал своих сил на таких крупных и дерзких кражах. Но что-то упрямо говорило мне: "Все-таки я сделаю, сделаю это!" – и я всю ночь не мог заснуть, перебирая в голове сотни всевозможных планов, критикуя их и отбрасывая один за другим. И к утру я уже знал, что должен сделать.
Я успел за эти два дня подметить, что большая часть старорусских мещан по окончании работ поздно вечером возит для себя воду на тележках в особых маленьких бочонках в пять – шесть ведер, и я решил себе приобрести такой же бочонок и тележку. Поутру Иван позвал было меня погулять с своими друзьями, но я отговорился головной болью, и он один ушел на весь день, а я отправился на базар, сторговал там за 2 рубля 65 копеек тележку с бочонком и велел лавочнику доставить их ко мне на квартиру. Покупка была доставлена в. срок; тогда я снял с одной стороны бочонка обручи, выбил дно и опять надел обручи по-старому. Зачем это было мне нужно? А вот зачем. Я рассуждал, что если мне удастся забраться в магазин, то невозможно будет по главным улицам города тащить узел с товарами в ночное время – меня, наверное, арестуют. В бочонок же можно будет наложить что угодно и затем проехать взад и вперед раза три, не возбудив ни малейшего подозрения. Вечером этого дня я опять был в театре и при возвращении оттуда снова зашел в магазин Попова, купил папирос, орехов, конфет, пару апельсин. Мне не столько нужна была эта покупка, сколько хотелось обстоятельнее все высмотреть, и я нарочно мешкал, покупая разные мелочи. Выйдя затем из магазина, я долго прогуливался по противоположной стороне тротуара, желая посмотреть, как будут запирать магазин. Действительно, приказчики скоро замкнули его и ушли домой; тогда я приблизился и увидал два простых висячих замка, которые при случае нетрудно было бы и сломать, но рискнуть на слом замка в таком пункте было бы непростительной ошибкой: почти напротив, у входа в парк, всегда стоит сторож, и малейший неосторожный шум погубил бы меня. Поэтому я вынул из кармана заранее приготовленный кусок воска и. снял слепок с замочной скважины. Был уже первый час ночи, и я, крайне довольный своими наблюдениями, пошел домой. Дома я застал сильно подвыпившего Брусницына. Я объявил ему, что получил от отца телеграмму, обязывающую меня завтра же уехать на два дня в Новгород, и что поэтому я советую ему, вместо того чтобы платить даром деньги за номер, провести эти два дня у родных. Он согласился, что это резон и тотчас же захрапел. Как только я отправил его утром к родным, сказав, что и сам через час уеду, на душе у меня стало легче, бояться и стесняться теперь мне было нечего. Я поехал тотчас же в железный ряд подбирать по снятой модели ключи. Но и тут я был в высшей степени хитер и осторожен; я делал вид, что просто ищу замков попрочнее, и воскового снимка приказчику, разумеется, не показал. Подходящие замки были скоро найдены, и я, не торгуясь, расплатился. Всю остальную часть дня я не показывал никуда носа, сидя в своем номере и обдумывая все мелочи будущего преступления, причем подкреплял свой дух пивом и коньяком. Однако под вечер во мне заговорило что-то вроде угрызений совести; я спрашивал себя: хорошее ли дело я затеваю? Имею ли я право взять те деньги, которые, быть может, нажиты потом и кровью нескольких поколений? Было ли бы мне приятно, если бы меня самого кто обокрал? У. меня голова закружилась от этих не вовремя и некстати явившихся мыслей, и я, чтобы избавиться от них, оделся на скорую руку, вышел, запер свою квартиру и пошел наверх гостиницы послушать орган. Там я потребовал себе полбутылки коньяку и закуску. Однако и после того я не мог успокоиться и выпил для храбрости стаканчик очищенной, а затем отправился в театр. В театре, как сейчас помню, давалась "Бедность не порок",[32 - "Бедность не порок" – комедия А. Н. Островского (1823–1886).] пьеса эта сильно мне понравилась, так что я просидел до конца представления и окончательно развеселился. Из театра я вернулся домой. Ровно в час ночи я взял свою тележку, положил на нее бочонок, захватил стеариновую свечку, спички и ключи от купленных утром замков и отправился на Ильинскую улицу. Уже в близком расстоянии от магазина мне повстречался ночной сторож с колотушкой; я пропустил его мимо, завернул за угол и, поставив тележку, подошел к магазину. Тишина кругом была мертвая, только далеко где-то слышался стук колес. Вынув ключи, я отпер замки и потихоньку приотворил дверь; за ней была внутренняя стеклянная дверь, и если бы она оказалась тоже замкнутой, то мне пришлось бы или выдавливать стекло, то есть поднимать шум, или совсем отказаться от своей затеи. Но, на мое счастье или несчастье, она не была замкнутой. Осмотревшись еще раз кругом, я пошел за тележкой, подвез к магазину, растворил настежь двери, въехал в них и затем плотно затворил за собою. Сердце мое страшно билось – я чувствовал, что половина дела сделана, что я теперь полный хозяин магазина. Успокоившись, я зажег свечку, и первой моей заботой было направиться к конторке, где хранится выручка. Я нашел в ящике пятьдесят рублей бумажками, девятнадцать серебром и девять медью, всего семьдесят восемь рублей. Сосчитав и забрав эти деньги, я был несколько разочарован… Затем я начал осматривать товары: там был сахар в целых головках и пиленый в мешках, конфеты, пряники, шоколад, крупчатка, но больше всего было чаю собственной фирмы Попова, и я решил брать один только чай, так как это самый дорогой товар. Я наклал полную бочку пятирублевого и трехрублевого чаю – фунтами, полуфунтами, четверками и восьмушками. Накрыв затем бочонок мешком и обвязав шнурком, я погасил свечу, прислушался; приотворив слегка дверь, посмотрел, не идет ли кто по улице, и, уверившись, что все тихо и пустынно, спокойно растворил двери, вывез вон из магазина свою тележку, запер опять двери на замки и поехал с добычей домой. Дома я все это выгрузил и отправился за новой порцией. Короче сказать, я проделал эту операцию три раза. В последний раз я захватил, кроме чаю, триста сигар (по десять рублей сотня) и пятифунтовую банку конфет монпансье. Во время этих трех поездок встречались мне по дороге извозчики, ночные сторожа, запоздалые гуляки, полицейские – и никто, решительно никто, не подумал остановить меня. Дело в том, что за ночь можно встретить несколько десятков человек, едущих с такими бочонками по воду: иным засветло бывает некогда, а иным стыдно везти на себе воду – и вот для этого они выбирают такое время, когда все спят, и если попадется все-таки нечаянно знакомый, то, свернув в сторону, стараются сделать такую кислую рожу, что у того пропадает всякое желание признать знакомого или приятеля.
Окончив езду, я сложил весь чай в угол комнаты, накрыл простыней и лег спать, так как становилось уже светло. В семь часов утра я отправился на базар и купил там три деревянных ящика и несколько рогож. Там же я узнал о сделанной ночью покраже – весь город взбунтовался, как расшевеленный муравейник… Попов всю полицию поднял на ноги; заарестовали множество подозрительного народа. Порешили в конце концов на том, что некому было совершить эту дерзкую кражу, кроме старшего приказчика, потому что замки были целы, а ключи хранились у него… Словом, я находился вне всякого подозрения. Сжегши все чайные обертки, я ссыпал в ящики весь свой чай (книзу худший, а кверху лучший сорт), забил ящики гвоздями, обшил рогожами и отвез на вокзал, где и сдал в товарный поезд, а сам тоже взял билет до Новгорода. В Новгороде я продал чай одному еврею по восемьдесят рублей за пуд и, получив с него восемьсот рублей, на другой день вечером отправился назад в Старую Руссу. На вокзале меня встретил Брусницын, очень сердитый на то, что я вместо двух дней проездил три: по его словам, генерал с Лизаветой приехали еще накануне, и если бы он, Иван, сегодня наконец не встретил меня, то плюнул бы на все и уехал в Петербург. Приехав в гостиницу, я постарался задобрить Ивана и угостил его бутылкой мадеры. Тогда он объяснил мне, что утром у него назначено с Лизаветой свидание на базаре. Действительно, напившись на другой день поутру кофе, мы отправились на базар и повстречали там Лизавету. Она остановилась и, вступив с Брусницыным в разговор, спросила, кто я такой. Он отвечал: "Это мой хороший товарищ. Я нарочно пригласил его из Петербурга, так что перед ним можешь не стесняться. Скажи же нам, долго ли придется тут жить?" Она засмеялась: "Вишь какой нетерпеливый! Ну да утешься. Скряга мой завтра утром уезжает в Москву, и вечером милости просим на чашку чаю". На этом мы и расстались, и я пошел с Иваном погулять. В деньгах я больше не нуждался и скажу вам коротко, что в эти два дня прогулял с ним четыреста сорок рублей. Брусницын все приставал ко мне с вопросом, откуда у меня завелось столько денег, но я отделывался шутками и говорил: "Пей знай, ешь и гуляй, пока есть время! Кто знает, может быть, это мы напоследях гуляем". Я и не подозревал того, что эта шутка была пророческой…
В назначенный срок в двенадцатом часу ночи мы явились в гости к генералу Красинскому. Он действительно с вечерним поездом этого же дня уехал в Москву, и Лизавета с нетерпением поджидала нас. Она немедленно поставила на стол бутылку шампанского и закуску; впрочем, Брусницын еще и до этого был пьян и еле держался на ногах, я же, зная, какое дело нам предстоит, был только немного навеселе. Усадив нас, Лизавета начала: "Мне кажется, я составила хороший план. Деньги лежат в кабинете, в письменном столе. Мы взломаем дверь, и когда генерал вернется, я скажу ему, что в его отсутствие ворвались неизвестные люди и, приставив к моей груди нож, грозили меня зарезать при малейшей попытке закричать. Я упала, мол, в обморок и, что дальше было, не знаю, а когда пришла в себя, то нашла квартиру в беспорядке, все замки сломанными и даже наружную дверь растворенной. Если вам, господа, нравится мой план, то скорее принимайтесь за дело". Что касается меня, то, признаюсь, мне не по душе пришелся этот план: что-то как будто фальшивое звучало в ее словах, и глаза виновато, как мне показалось, бегали по сторонам. И у меня в эту минуту мелькнул в голове свой ужасный план: убить эту девушку и тогда взять деньги, чтобы не было лишнего свидетеля. Но, взглянув на Ивана, я должен был сразу выкинуть из головы все подобные думки: он так и таял перед Лизаветой и кричал пьяным голосом: "Согласен!.. Отлично!.." Вслед за тем он схватил лежавший в кухне топор и живой рукой сломал замок. Я пошел во внутренние комнаты, обыскал кабинет, спальню, перерыл все вещи – нигде не было ни одной копейки. Тем временем Лизавета успела окончательно напоить Брусницына, и, когда я вернулся в кухню, он уже спал мертвецким сном. Услыхав от меня, что никаких денег нет, Лизавета притворилась страшно изумленной и испуганной и пошла вместе со мной в кабинет на новые поиски, С места на место перекидывала она все вещи, рылась в ящиках стола и в бумагах (в то время как я стоял у дверей и наблюдал за каждым ее движением) и наконец с грустью обратившись ко мне, сказала: "Ну и маху же я дала! Значит, он увез деньги с собой… Да и как это я, дура, могла подумать, что такой скряга оставит здесь экую прорву денег!.." Тогда я поспешил к Ивану и, разбудив его, сказал ему на ухо, что мы погибли, что Лизавета подвела нас и что нам остается для своего спасения одно только – убить ее. Но Иван чуть не убил меня самого за эти слова, так что мне пришлось обратить их в шутку. И вот, чтобы не уйти из квартиры с голыми руками и не страдать даром, я захватил с собой серебряный столовый сервиз, золотые часы и еще кой-какие мелочи и на всякий случай взял с Лизаветы клятву, что она наших имен не выдаст (хотя и очень мало надеялся в душе на эту клятву). Вернувшись в гостиницу, Иван упал на пол и заснул как убитый, а я взял извозчика и съездил к одному фартовому еврею, которому продал все захваченные вещи. И хорошо сделал, потому что на другой же день около полудня – не успели еще мы с Брусницыным продрать как следует глаза – к нам заявилась в полном составе полиция. По всему городу ходил уже слух о произведенном у генерала Красинского грабеже, и в дверях, кроме полиции, толпилось множество постороннего народа: среди любопытных я заметил и обокраденного мной купца Попова… "Билет у вас в порядке?" – обратился ко мне пристав. Я вынул из кармана и подал ему свой билет. Посмотрев его, он сказал мне и Брусницыну: "Именем закона я пришел арестовать вас!" и велел квартальному надзирателю произвести у нас обыск. Ничего подозрительного не нашлось. Но вдруг Попов заявил приставу, что признает свою банку из-под монпансье, которая стоит у меня на столе: это, мол, та самая банка, которая была на днях украдена из его магазина. Открыли банку, но в ней оказалось уже не монпансье, а кофе. "По каким приметам вы ее признаете?" – спросил пристав. Попов отвечал, что, насколько ему известно, во всем городе нет другого магазина, кроме его, с конфетами этой фабрики, а также – что и эта банка пятифунтовая, как и пропавшая. На это я возразил, смеясь: "Может быть, вы и правы, что у вас была такая же банка, но эту я привез из Петербурга, а Петербург не Старая Русса – там в каждой мелочной лавочке можно достать все, что угодно. Так что ваше показание не есть факт". Таким образом, Попов остался с носом. Тем не менее нас отвезли в часть в сопровождении четырех надзирателей. Дверь из другой комнаты неожиданно отворилась, и в нее вошла наша приятельница Лизавета. Я сразу догадался, в чем дело, и принял такой вид, будто не видал ее никогда в жизни. "Эти ли господа были у вас ночью в гостях?" – обратился к ней пристав. "Да, эти самые", – ответила она твердо, с нахальством оглядывая нас. Мы с Брусницыным, с своей стороны, отперлись, и затем нас отправили в каталажку.
В тот же день я послал отцу телеграмму о своем аресте, прося его скорее приехать. Мне нельзя было не сделать этого уж и по одному тому, что при обыске у меня отобрали тысячу двести рублей, из которых девятьсот были отцовских, и если бы меня обвинили, то эти деньги могли бы пропасть и даже послужить мне уликой. Да и, кроме того, рано или поздно отец все равно узнал бы. На следующий же день с утренним поездом приехал в Старую Руссу генерал Красинский, вызванный по телеграфу Лизаветой. Как только он зашел в свой кабинет и увидал сломанным письменный стол, так и ахнул: у него пропали двадцать пять тысяч рублей!.. После этого ко мне с Иваном предъявлено было новое, еще более тяжкое обвинение: похищение со взломом и насилием не только серебряной посуды (в чем обвиняли накануне со слов Лизаветы), но еще и двадцати пяти тысяч рублей. Теперь для меня не подлежало уже сомнению, что деньги эти действительно существовали, но что они взяты были самой Лизаветой, мы же были приглашены ею лишь для отвода глаз. Словом, мы были одурачены, как последние школьники! После прочтения обвинительного акта нас стали формально допрашивать, причем и я и Брусницын показывали согласно, что мы знать ничего не знаем, ведать не ведаем.
К вечеру приехал и мой отец. Он был немедленно допущен ко мне, и я уверил его, что решительно не понимаю, за что меня арестовали, так как отобранные у меня тысяча двести рублей – его собственные, кровные деньги. На другой день меня перевели в тюрьму, и дело пошло своим чередом. Я очутился в первый раз в жизни в арестантской рубахе, халате и изорванных котах: записали все мои приметы и посадили в подсудимое отделение. Не стану подробно описывать начало своей арестантской карьеры, отмечу из нее лишь главные черты и важнейшие случаи. Арестанты встретили меня с первого же шага насмешливо и даже враждебно; тюремные иваны пристали ко мне с требованиями "за парашу", грозясь даже побить меня, если я не заплачу им десяти или по крайней мере пяти рублей. Но вскоре произошла в их отношениях ко мне странная, поразившая меня перемена. Арестанты отошли от меня, начали собираться кучками и о чем-то шептаться между собою; потом некоторые из иванов опять подошли ко мне, но уже с заискивающими речами и предложениями разных услуг. Мои вещи положили на нары, мне дали тюфяк, набитый соломой, и такую же подушку. Оказалось, причиной этой внезапной перемены был надзиратель, сообщивший им, что я украл двадцать пять тысяч и что этих денег у меня при обыске не нашли. "Славно, должно быть, припрятал, – похвалил меня надзиратель, – за такой куш и посидеть не жалко". У одних арестантов пробудилось вследствие этого уважение ко мне, другие надеялись урвать от меня малую толику, обыграв в карты или пустив в ход другой какой способ. Тут же по поводу меня и моего преступления в камере произошло несколько ссор, и я впервые познакомился с некоторыми образчиками воровского наречия: "Куда ты лезешь, что ты об себе понимаешь? – кричал один арестант на другого. – Ведь я тебя хорошо знаю. Ведь ты простой шармошник, ты только и умеешь, что таскать кисеты с табаком у пьяных мужиков! Ты больше ничего на своем веку не украл. А меня каждый знает! Я на скоки ходил,[13 - Скоком называется на воровском наречии кража, сделанная в каком-нибудь доме среди белого дня и в самое короткое время. (Прим. автора.)] я на доброе утро хаживал,[14 - Кражи на доброе утро совершаются летом, на рассвете, во время крепкого утреннего сна хозяев. Если последние все-таки проснутся от шороха, вор бросается наутек, не вступая с ними в борьбу. (Прим. автора.)] и я на ципы, случалось, хаживал".[15 - На ципы ходят в осенние и зимние темные ночи; тут нередко пускается в ход оружие. (Прим. автора.)]
Откуда-то нашлись такие даже субъекты, которые стали уверять, будто хорошо знают и меня самого, и моего отца, и моих братьев, которых, кстати сказать, у меня никогда не было. Явился вскоре самовар с чаем и французскими булками и бутылка спирта. От водки я, однако, наотрез отказался, подозревая тут какую-нибудь ловушку. Вдруг возле меня очутился разостланный коврик, и несколько человек уселись играть в карты. То же самое началось и в другом и в третьем месте, здесь в штос, там в стуколку, в марьяж, преферанс, кончину. Предложили и мне поставить карточку, и, как я ни упирался, говоря, что и играть совсем не умею, и не люблю, и денег у меня при себе нет, – ничто не помогло. Одни подскочили ко мне с предложениями дать взаймы сколько угодно, другие уверяли, что в игре нет ничего не только мошеннического, но даже и трудного, что стоит моей карте упасть налево – и я выигрываю, и что нужен, следовательно, один только фарт. Кончилось тем, что я взял-таки взаймы десять рублей, и у меня отобрали их в какие-нибудь десять минут, прямо сказать, наверняка. Я не был еще в то время страстным игроком и потому продолжать игру не согласился, а, напившись чаю, крепко заснул. Вдруг посреди ночи страшная боль в ногах заставила меня пробудиться, и я с громким криком вскочил с места. Кругом была мертвая тишина; арестанты, укутавшись с головами в халаты и шубы, лежали на нарах. Опомнившись, я стал рассматривать пальцы ног и увидел, что кожа на них сожжена; это мне, как новичку, поставили мушку… Делается это так. Берут кусок бумаги, обмакивают в керосин, сонному обвертывают ею пальцы и поджигают. Когда я с испуга вскочил на ноги, бумажка отлетела. Утром я узнал, чья это была проделка, и решил отплатить насмешнику… Едва он заснул в ближайшую ночь, как я взял носовой платок, разорвал на полоски, намочил в керосине и, привязав полоски нитками к пальцам спящего, зажег. Когда пламя вспыхнуло, он с диким ревом вскочил и начал срывать с ног мнимую бумагу, но оказалось, не так-то легко сделать это. Поутру беднягу отправили в больницу и он пролежал там три месяца, а я сразу отучил арестантов от шуток над собой. Правда, днем собралась сходка, чтобы судить меня, но я подмазал глотку некоторым Иванам и меня оправдали. Так совершилось мое тюремное крещение…
Под судом я сидел целый год, и только в мае восемьдесят седьмого года меня приговорили наконец на год и четыре месяца к рабочему дому, но последний был заменен одиночным заключением; товарищ же мой Брусницын, как совершеннолетний, был осужден на четыре года в арестантские роты и отослан в Архангельск. Срок свой я отбыл в новой старорусской тюрьме, тогда только что построенной по образцу Дома предварительного заключения в Петербурге. Арестантам полагалась обычная скидка, но одиночное заключение строго не выполнялось. Тем не менее о старой тюрьме приходилось от души пожалеть, так как здесь не позволяли есть своей пищи, не позволяли иметь даже чай-сахар, а о табаке уж и говорить нечего: за одно имя его грозила неделя темного карцера… Словом, порядки были очень строгие, и те самые арестант ты, мои сожители по старой тюрьме, которым, казалось, и сам черт был не брат, веди себя здесь тише воды ниже травы, ломали шапку перед каждым надзирателем, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, как это и бывает со многими молодыми людьми, которых не укатали еще крутые горки, я начал свою арестантскую карьеру не тихим и робким поведением, а, напротив, дерзостью своей удивлял не только товарищей, но и само начальство. Со смотрителем я столько раз ругался, что он уставал сажать меня в карцер. Но я задумал еще и другое. Однажды по тюрьме пронесся слух, что к нам приедет один из великих князей. Смешно даже рассказывать, какая поднялась суматоха, как струсил смотритель и надзиратели. Меня из карцера перевели тотчас же в общую камеру, куда посадили еще пятерых несовершеннолетних крестьян, арестованных за порубку леса – кто на две недели, кто на месяц. В одиннадцать часов утра к тюрьме подкатило пять троек, и из них вышли великий князь и вся военная и гражданская власть города. Наш номер был первый от входа, и к нам зашли прежде всего. Войдя, великий князь вежливо поздоровался, но, кроме меня, никто не знал даже, как следует его назвать, и потому отвечал ему один я. Просмотрев у всех билеты, он обратился к нам с вопросом, нет ли у нас каких жалоб. Тут я и выступил вперед: Я показал хлеб, которым нас кормили и который был наполовину с песком;, показал наш общий бак, в котором подавался и обед и держалась день и ночь вода для питья, так что ее нельзя было пить от постоянного запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантам не дают кипятку, и в заключение сказал: "Не обращайте, ваше высочество; внимания на то, что в кухне вам подадут сегодня для пробы вкусный обед. Это делается только на один день, а завтра опять нас будут кормить гнилой капустой и тухлым мясом". С любопытством выслушав мой рассказ, великий князь обратился к смотрителю с вопросом, правда ли все это, но тот с перепугу только и мог сказать: "Ваше превосходительство!", и, смешавшись окончательно, замолчал. За него ответил что-то губернский прокурор, а великий князь в гневе вышел вон.
Все тотчас же переменилось. Смотритель поступил новый, кормить арестантов стали лучше, даже с воли начали все пропускать… Но я, не удовольствовавшись этим, удалил еще и старшего надзирателя, Василия Александровича. Собственно, это был добрый человек, но пьяница и в пьяном виде проделывал большие жестокости: для забавы он бил арестантов ключом и любил ставить, кроме того, головные банки, то есть забирал в один кулак волосы с макушки и, крепко натянув, ударял другой рукой по кулаку… Эта жестокая пытка была любимым его развлечением, и ради него он не дозволял арестантам стричься. Однажды, играя с арестантами, я слегка зашиб себе до крови голову, и вот, пользуясь этим случаем, как только зашел в мою камеру Василий Александрович и сказал: "Давай-ка, Мишка, волосы!" – я стрелой кинулся вон и побежал прямо к доктору, которому и заявил, что старший надзиратель ключом пробил мне голову… Доктор пришел в такое негодование, что, перевязав мне ранку, послал сейчас же за смотрителем и в присутствии его составил протокол. Говорили даже, что старшего отдадут под суд, но под суд его не отдали, так как он был дворянин, а только выключили в тот же день со службы.
Так незаметно окончился срок моего исправления (а вернее было бы сказать, развращения), и в апреле восемьдесят восьмого года я вышел из тюрьмы. За мной приехала мать и привезла с собой новую одежду, так как за два года я порядочно вырос и прежняя уже не годилась. Мы в тот же день поехали в Петербург. Отца застали еще в постели. При входе моем он поднялся и ласково поздоровался – в этот раз он вполне верил в мою невиновность. Он тотчас же предложили мне заведовать по-прежнему своей торговлей, и я с жаром ухватился за это предложение. Я должен вам сказать, Что, несмотря на всю свою развращенность, сидя в тюрьме, я много размышлял о своем прошлом и будущем и пришел к тому убеждению, что лучше всего на свете честный труд и кусок хлеба, заработанный с чистой совестью. И я думаю, что если бы люди были развитее и добрее, если бы они несколько иначе глядели на вещи и по-человечески, относились к тем, кто однажды сделал ошибку, то мое решение пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же попытке моей сблизиться с ними я получил ужасный нравственный толчок, какого никогда не ожидал: никто не только не подал мне руки помощи и доброго совета, чтобы удалить от прошлого и его грязных дел, а, напротив, каждый, казалось, спешил глубже толкнуть меня в пропасть преступления и разврата, так, чтобы я не мог уже остановиться и опомниться… Простите мне за эту философию, но слишком уж много пришлось мне тогда выстрадать, чтобы я мог теперь спокойно вспоминать и рассказывать. С первых же дней, как я стал за прилавок, я заметил, что отношение ко мне родных и знакомых совсем уже не то, что было прежде. Каждое их слово, каждая улыбка говорили мне о презрении, о желании уязвить меня, оскорбить, и это желание чудилось мне даже там, где его, быть может, и не было вовсе. И при всяком посещении магазина каким-нибудь знакомым меня бросало то в жар, то в холод; от одного взгляда этих людей я приходил в ярость и готов был на все… Это состояние начало наконец повторяться со мной так часто, что во избежание какого-нибудь безумного поступка я решил объясниться с отцом и умолять его отставить меня хоть на время от торговли. Его сильно удивило мое решение; не дав мне договорить, он сказал, что следовало гораздо раньше, еще два года тому назад, обо всем этом подумать и что если мне не стыдно было в тюрьму попадать, так не должно быть стыдно и в глаза людям глядеть. Словом, я увидал со стороны отца полное непонимание моей. душевной смуты; тем не менее я наотрез отказался продолжать ходить в лавку. Отец вспылил и хотел было поднять на меня руку, но он увидал в глазах моих что-то такое, что заставило его остановиться: перед ним стоял уже не прежний забитый и запуганный мальчик, а юноша, в котором пробудились совесть и сознание собственного достоинства…
Он махнул на меня рукой, и с этих пор я стал безвыходно сидеть дома, скучать, злиться на всех и отчаиваться. Все старое я презирал, а нового у меня ничего еще не было в голове. А между тем я был молод, во мне играла кровь… Я жаждал общества, деятельности, дружбы, задушевных бесед… Во время этого хаоса мыслей мне нужен был человек с понятием, который вывел бы меня из заблуждения, указал бы мне дорогу, куда я должен был идти. Но такого человека не нашлось. И поневоле приходилось мне незаметно для самого себя мириться со своим прошлым, оправдывать перед совестью свои дурные поступки. Мириться с прошлым, с этим позорным прошлым, которое стоило мне стольких слез, мук, отчаяния! И теперь, когда во мне пробудилась совесть, мне снова пришлось страдать и плакать бесплодно, без всякой пользы, так как судьбой было решено, чтоб я погиб окончательно и уже без возврата…
Тем временем отцу моему понадобилось подыскать новую, более удобную квартиру, и после многих поисков и трудов ему удалось найти подходящую во второй роте Измайловского полка. Летом мы переехали туда, и тут я был страшно поражен, узнавши, что дом наш принадлежит генералу Красинскому. Но не успел я еще опомниться от первого удивления, как, выйдя на двор и взглянув из любопытства наверх, увидал в окне третьего этажа… Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая меня некогда погубила! Едва веря собственным глазам, я с час времени точно в столбняке простоял на одном месте, хотя в окне давно уже никого не было. Я весь дрожал как в лихорадке и в эту минуту готов был на какое угодно преступление! Мне было душно, я весь горел; как пьяный вышел я на улицу и машинально, без всякой цели, отправился, куда глаза глядели. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадал из-за этой женщины, все мое недавнее прошлое, как живое, встало передо мной… Мне хотелось ей мстить, страшно мстить, и я придумывал, как бы лучше сделать это. Одно время мне пришло даже в голову вскочить среди бела дня в квартиру генерала и жесточайшим образом изрезать Лизавету на мелкие куски… Но я отогнал эту мысль: не Лизавету, конечно, было мне жалко, а не хотелось себя самого подвергать опасности. Зато, говоря по. чистой совести, я с удовольствием исполнил бы. свой план где-нибудь в укромном месте, вдали от людских взоров.
Возвращаясь поздно вечером домой, я был уверен, что там ждут меня неприятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо всем своему генералу, и тот немедленно отказал моему отцу от квартиры. Однако опасения мои не оправдались: как в этот, так и в следующие дни все было у нас спокойно, и отец ничего не подозревал…"
На этих словах рукопись Шустера, к сожалению, оборвана. Случилось это таким образом.
Во время треволнений ломовского периода, длившихся около двух месяцев, мне было, конечно, не до учеников с их автобиографиями; они сами хорошо понимали это, и учение и писательство временно приостановились. А когда личные мои тревоги окончились и я готов был вернуться к обычному образу жизни и обычным занятиям, снова начал интересоваться обществом своих невольных сожителей, их горем и радостями, то, к удивлению своему, увидал, что в отношениях арестантов к Шустеру опять успела произойти резкая перемена к худшему. Снова все сторонились от него, отказывались с ним есть из одной чашки, ругали его "поганым жидом" и вообще выказывали величайшее презрение. Сам Мишка Шустер имел опять запуганный и какой-то растерянный вид; он смирно лежал на нарах в своем углу, углубившись в писанье или другую какую работу, и, казалось, не замечал того, как к нему относится камера. Но невнимательность эта, несомненно, была деланной; подходя к столу за своей порцией пищи, он каждый раз виновато опускал голову и пугливо бегал глазами по сторонам. Ясно было, что его в чем-то поймали, уличили… Я недоумевал. Но вот однажды в отсутствие Шустера в камеру вбежал Сохатый, сконфуженный и вместе разъяренный.
– Убирайте от меня эту стервину проклятую! – закричал он, швыряя долой с нар подстилку своего недавнего приятеля.
– Что так? Аль разонравилась Катенька? – иронически спросил кто-то из кобылки.
– Да кто ж ее знал, сволочь, что она… такая? Вы чего ж молчали, коли слышали?
– Полно! Будто ты не знал? Сохатый закрестился обеими руками:
– Вот тебе крест и пресвятая богородица, не знал! Да от нее, от падлы, еще заразу получить можно: кажный день, говорят, в больницу ходит, от сифилиса лекарство берет.
– Вот так штука! Вся тюрьма отлично знала, один Сохатый у нас младенцем был! Поверите ль этому, братцы?
Сохатого подняли на смех. Окончательно переконфузившись, он заплевался, разразился громкими проклятиями и стал топтать ногами тюфяк Шустера, продолжавший валяться на полу.
Вечером на поверку явился давно не бывавший в тюрьме бравый капитан. Неожиданно для всех Шустер обратился к нему с жалобой:
– Господин начальник, мне не дозволяют на нарах спать.
Со мной он держался по-прежнему почтительно, почти благоговейно, и как только я начинал заниматься со своими учениками, он присаживался потихоньку к столу и внимательно прислушивался, задавая мне время от времени разные вопросы. Кончилось тем, что я и его пригласил заниматься (раньше он несколько дней учился у Штейнгарта). Оказалось, разумеется, что он многое позабыл из того, что знал когда-то в гимназии; однако стоило ему решить несколько арифметических задач, написать несколько диктантов, и все позабытое быстро восстановилось в памяти: в письме он начал ставить правильно не только букву ять, но даже и знаки препинания. Шустер выказывал большую наклонность вступать в беседы и на другие темы, непосредственно не относившиеся к ученью, и меня поражала каждый раз глубокая искренность, звучавшая в его рассуждениях о необходимости жить честным трудом, о том, какое страшное несчастье попасть в молодые годы в каторгу, и пр. Однажды я заговорил об его прошлом, спросил, что привело его в тюрьму.
– Эх, Иван Николаевич, долго рассказывать! – вздохнул Шустер. – С тринадцати лет ведь началось это со мной… Мне самому ужасно хотелось бы все рассказать вам так, как вот попу на духу рассказывают.
– Почему хотелось бы?
– В душе уж очень много накипело, Иван Николаевич, всяких обид, унижений… Чего ведь только не пришлось мне пережить за эти десять лет! Не скрою от вас, что я и сам очень много пакостей на своем веку наделал… Не назову я себя хорошим человеком, зачем лицемерить! Но только я вполне надеюсь, что я не вовсе еще погибший человек, и попади я в хорошую компанию, я бы еще мог бросить дурные привычки. Ну, вот мне и хотелось бы все рассказать вам… Быть может, вы мне и добрый бы совет подали.
– За чем же дело стало? Хоть сейчас начинайте, я с удовольствием стану вас слушать.
– Нет, Иван Николаевич. Многое мне, пожалуй, стыдно будет вам на словах обсказывать, и я, быть может, стану привирать… А мне пришло в голову на письме описать вам свою жизнь.
– Это будет еще лучше, – с живостью ухватился я за любопытное предложение, – сумеете ли вы только?
– Думаю, что сумею. Вот бумаги только много понадобится…
За бумагой, однако, дело не стало – я согласился доставлять ее в каком угодно количестве, и работа закипела. Мне оставалось лишь удивляться, с какой быстротой Шустер исписывал тетрадку за тетрадкой и передавал мне. Я еле успевал добывать бумагу и карандаши. Содержание этой сохранившейся у меня автобиографии кажется мне довольно интересным, и я хочу целиком привести ее здесь, по возможности в подлинных выражениях. Позволяю себе делать только сокращения и чисто формальные поправки, которых к тому же и не так много. Что всего удивительнее – иностранные слова, в изобилии встречающиеся в произведении Шустера, употребляются им всегда правильно и вполне кстати.
"Отец мой был старого покроя фанатик и, несмотря на то, что много лет жил в Петербурге среди цивилизованных евреев, все-таки не расставался со своими талмудическими суевериями, которые считал законом. Древнееврейский язык, пятикнижие, талмуд и гемору[29 - Пятикнижие, талмуд и геморра – еврейские религиозные книги.] он знал в совершенстве и, занимаясь обучением еврейских детей всей этой премудрости, жил не только безбедно, но даже с некоторым комфортом. Зато остальные все науки он считал вздором, противным талмуду, а по-русски не умел даже подписать своего имени. Немалого труда стоило моей матери, которая была женщиной теперешнего поколения, убедить отца отдать меня в Александровскую гимназию. Но судьба с детства меня преследовала, и вот, как только исполнился мне тринадцатый год – год, в котором каждый еврей вступает в совершеннолетие, – отец взял меня из второго класса под предлогом, что в гимназии меня заставляют писать по субботам, что противно талмуду; он боялся, что благодаря этому я совсем развращусь и перестану исполнять религиозные обряды. Горько мне было бросать ученье и среду образованных людей, но делать было нечего; я вышел из гимназии с самыми пустыми знаниями. Отец определил меня в свой собственный чулочный магазин. Нужно вам сказать, что сам он ничего не понимал в этом деле, но устроил чулочную, мастерскую главным образом для того, чтобы иметь право жить в Петербурге, и много пришлось ему потратить денег сперва на то, чтобы купить диплом мастера в одном виленском еврейском обществе, а затем, не имея в самом деле никаких знаний, сдать в Санкт-Петербургской ремесленной управе проверочный экзамен. После этого он купил десять машин, по четыреста и пятьсот рублей каждую, и нанял мастериц для работы. Как видите, у отца моего водились деньги…
И вот, год спустя, я был в этой мастерской полным хозяином. Но я не чувствовал никакой склонности к торговле и, досадуя на отца за вред, который он мне причинил, относился к делу крайне небрежно: начал заводить знакомства с гуляками и помаленьку таскать деньги из магазина… Отец вскоре все это заметил и стал жестоко наказывать меня, бить, мучить, не давать есть по два, по три дня. Конечно, все эти меры только еще больше озлобляли меня; случалось, что из страха я пропадал на несколько дней из дому, меня отыскивали, и тогда следовала новая, еще более суровая расправа… Побившись со мной таким образом месяца три-четыре, отец в один прекрасный день отдал меня в ученье к знакомому ювелиру с условием, если он выучит меня в два года ювелирному искусству, заплатить ему двести рублей. Новая работа пришлась мне по душе, я начал остепеняться. Мне было у моего хозяина очень хорошо, так как никаких грязных домашних работ, как это бывает обыкновенно с мальчиками-учениками, он не заставлял меня делать. С первого же дня меня стали учить паять, шлифовать, полировать, делать цепочки и пр. Я занимался прилежно. Сам хозяин плохо умел работать, он любил зато погулять, пощеголять и мастерской своей почти не касался; зато у него был подмастерье, который очень хорошо знал свое дело, но за которым водился один грех – любовь к водке и картам. Впрочем, Богданов был честный малый, и хозяин любил его.
Обедать и ночевать я ходил каждый день домой, так как отец не желал, чтобы я ел у хозяина трефное.[30 - Трефное – у верующих евреев недозволенная религией пища.] Так прошло с полгода. Случилось раз, что выпивший Богданов ковал на браслет пять золотников золота и так неловко ударил молотком, что золото выскочило у него из рук на пол и куда-то пропало. Дело было вечером, хозяина не было дома. Мы с Богдановым принялись искать, но ничего не нашли, и он приказал мне идти домой, говоря, что завтра отыщется. Я отправился домой, а Богданов в кабак. Дома я рассказал об этой истории отцу, и отец тотчас же заключил из моего рассказа, что золото украл я, хотя и ничего не сказал мне об этом. Поутру, напившись чаю, я отправился, как всегда, в мастерскую. Богданов еще не вернулся с ночной гулянки, и хозяин стал расспрашивать меня, как это так случилось вчера, что пропало золото. Вдруг входит мой отец. Поздоровавшись с хозяином, он отозвал его тотчас же в сторону и спросил, нашлось ли золото. Хозяин отвечал, что нет. Тогда отец рассказал ему обо всех моих прежних грехах и заявил, что золото украл непременно я и что меня следует наказать. Как не поверить родному отцу? Ювелир предложил мне немедленно сознаться и вернуть покражу, обещаясь простить меня и не прогонять. Но в чем было мне сознаваться? Я плакал, клялся, божился – ничто не помогло; меня тут же разложили и дали пятьдесят розог, после чего хозяин сказал, чтоб я не приходил больше, пока не отдам золота. Однако, приведя меня домой, отец принялся снова бить меня самым жестоким образом. Боже мой! Каких только мучений я тут не перенес, и если бы мать не позвала соседей и меня не отняли бы, я бы умер, наверно, у него под руками; меня и так чуть тепленького унесли…
На четвертый после того день приходит к нам мой хозяин, извиняется и рассказывает отцу, что утром мыли пол в мастерской и под половиком нашли закатившееся в щель золото. Но отец отвечал, что это еще не доказательство моей невиновности: я мог взять золото и спрятать туда, а поэтому нечего жалеть, что меня наказали; это послужит мне хорошим уроком на будущее время… Хозяин тем не менее велел мне одеться и ехать с ним в его мастерскую. Там он обласкал меня, и все пошло по-старому.
Как раз накануне рождества один господин приносит серебряное портмоне и просит его вызолотить. Работы у нас было очень много, и хозяин, положив портмоне на верстак, сказал, что после праздников исполнит заказ. Прошли и праздники. В самый день Нового года я был дома и никуда не выходил. Утром следующего дня хозяин велел мне отшлифовать и вычистить портмоне.
Я посмотрел на верстак – его там не было; заглянул в ящик – и там не было; пересмотрел все коробочки, спросил у Богданова и, наконец, у самого хозяина. Последний сам перерыл всю мастерскую и тоже ничего не нашел. Тогда он подозвал меня и спросил, не я ли взял. Если я взял и теперь, возвращу назад, то он простит меня,, и ни отец мой, ни кто другой никогда ничего не узнают. Я, конечно, отпирался и божился. Тогда хозяин приказал Богданову никуда не выпускать меня, из квартиры. Вечером пришел к нему смотритель арестного дома (должно быть, его нарочно позвали). Долго они сидели вдвоем в кабинете хозяина и о чем-то беседовали, потом позвали меня. Хозяин объявил мне, что если я не сознаюсь, то смотритель немедленно арестует меня и увезет в тюрьму. А смотритель прибавил: "Закую тебя в ручные и ножные кандалы и заморю голодом. Лучше, братец, сознайся и скажи, где спрятал портмоне". Мне стало страшно… Я тогда не знал еще, что меня не имели права арестовать, когда никаких улик не было, и я поверил угрозам. Чтобы как-нибудь избежать тюрьмы, и отсрочить наказание, я объявил со слезами на глазах, что действительно украл портмоне и спрятал на дворе в снегу. Смотритель тогда засмеялся и со словами: "Вот так-то будет лучше!" простился и уехал домой. А хозяин зажег фонарь и повел меня в указанное мной место. Долго мы там рылись без всяких результатов, но я продолжал уверять хозяина, что не ошибся и спрятал именно в этом месте. Наконец он отложил поиски до утра и велел мне ночевать эту ночь у него, Мне это не совсем понравилось, но делать, конечно, было нечего. Оказалось, что моя шапка и пальто были уже спрятаны, и за мной тщательно следили. Утром, едва только рассвело, хозяин послал служанку за моим отцом, и тут только я понял, что наделал вчера своим глупым сознанием. Улучив удобную минуту, я выскочил, в чем был, на улицу и побежал куда глаза глядят по Екатерингофскому проспекту. Добежав до Садовой, я остановился. Утро было холодное, трещал январский мороз, а я был без шапки и в одной рабочей блузе. У меня слезы проступали из глаз от стужи, обиды и горя: в кармане не было ни копейки денег, не было и друзей… Но домой я решил не возвращаться. Завернув в Малков переулок, я очутился возле еврейской синагоги. На мое счастье, служба уже отошла, и там был только один слепой старик. Пройдя незамеченным, я забрался под "бимен"; так называется стоящее посредине синагоги возвышение вроде кафедры, под которым устраивается маленькая кладовая для хранения разных рваных книг и листов ("шеймес"), По еврейским законам нельзя их бросать зря, но их тщательно собирают и в известное время года отвозят на кладбище и там зарывают в землю. Вот туда-то я и залез и запер за собою дверцу. Отец, узнав обо всем от хозяина, выбежал из мастерской, взял извозчика и поехал меня искать по городу. Кто-то дорогой сказал ему, что видел, как я повернул в Малков переулок. Отец отправился тотчас же в синагогу, решив, что больше мне некуда деться; но синагога оказалась уже запертой. Тогда отец рассказал обо всем сторожу и упросил его отворить синагогу. Боже мой! Сердце у меня замерло, когда я услыхал шаги и голос отца и понял, что он роется по ящикам и смотрит под скамьями… Я уже думал, что вот-вот он найдет меня, и все глубже зарывался в рваные листы и книги. Но гроза на время прошла, и я слышал, как отец велел сторожу дать ему знать, как только я появлюсь. Сторож запер на замок дверь, и я опять вздохнул свободнее. Но скоро я почувствовал страшный голод, утолить который было, разумеется, нечем, и с досады я проспал несколько часов. Помню, что это было в пятницу. Меня разбудил сильный шум, поднявшийся в синагоге: это евреи сошлись на вечернюю молитву ("маарив"). Она окончилась, впрочем, скоро, и сторож позвал дворника, чтобы тот погасил свечи (сами евреи не могут на субботу гасить огонь) и оставил горящей только одну большую свечу, поставленную в помин усопшего, – ее нельзя было тушить ("иор цейт"). Убравши все как следует, сторож вышел и опять запер дверь на замок. Впрочем, я хорошо знал, что замок этот висит только для славы и. от одного толчка может разлететься в прах. Некоторое время я чутко прислушивался – все было тихо кругом, и я решился наконец вылезти из-под бимена и осмотреться. За стенкой раздавался стук тарелок и говор людей: это живший здесь же сторож ужинал со своим семейством. Голод мучительно давал мне о себе знать; надо было во что бы то ни стало выбраться из синагоги и куда-нибудь уехать. Но у меня не было ни теплой одежды, ни денег. Я увидал тогда на стене три жестяные кружки, в которые кладется денежный сбор, и решил прежде всего поживиться, этими деньгами. Хорошо зная еврейское поверье, что с пятницы на субботу мертвые приходят в синагогу молиться, и будучи уверен, что ни один фанатик не решится в это время войти в нее, я не стал дожидаться, пока у сторожа уснут: быстро сломал кружки и забрал себе в карманы все серебро и медь, какие там находились (потом оказалось – около двенадцати рублей); потом взял скамейку и со всего размаху ударил ею в дверь. Плохо державшийся пробой вылетел, дверь растворилась настежь, и я выбежал в коридор… Но тут случилось совсем не то, чего я ожидал, У сторожа был в это время в гостях какой-то молодой еврей, и когда послышался в синагоге шум, насмерть перепугавший сторожа и его семью, этот молодой человек не струсил, взял, несмотря на шабаш, свечку, выбежал в коридор и схватил мнимого мертвеца за шиворот. О каком-либо сопротивлении с моей стороны не могло быть и речи – я был безоружен, – и я повиновался. Молодой человек повел меня к сторожу, но понадобилось по крайней мере полчаса времени для того, чтобы сторож пришел в себя и поверил, что это был я, а не злой дух, принявший мой образ… Опамятовавшись, он оделся и пошел дать знать о происшедшем моему хозяину, хорошо зная, что ему за это перепадет на чай. Между тем арестовавший меня молодой еврей зорко караулил меня и хотел даже дать мне есть; но сторожиха запротестовала, сказав, что я уголовный преступник и что меня грешно кормить.
Явился наконец и мой хозяин. Вскричав извозчика, он повез меня к себе и дорогой все уговаривал сказать, куда я дел портмоне (в снегу его нигде не оказалось), причем обещал не только защитить от гнева отца, но даже и наградить меня. Но я отказался от прежнего своего показания, сказав, что солгал тогда из страха перед смотрителем тюрьмы, а что на самом деле я ничего не крал и ничего не знаю. Приехавши в мастерскую, хозяин сейчас же послал за моим отцом. Явился отец и, узнав, что я опять от всего отперся, потребовал, чтобы хозяин отпустил меня домой, где он скорее добьется от меня правды. Я хорошо понимал, какими средствами станет он добиваться правды, и начал умолять хозяина не отпускать меня. "Я не вправе тебя задерживать, – отвечал хозяин, – так как не имею против тебя никаких улик. Вот если бы ты сознался, тогда другое дело, тогда я оставил бы тебя". И я опять решился лучше наклеветать на себя, чем попасть отцу в руки. Напротив нашей мастерской жил переплетчик-немец, и у него находился в ученье мальчик. Вспомнив про него, я сказал хозяину, что, точно, украл портмоне и передал на хранение этому мальчику. Хозяин обрадовался моему показанию, похвалил меня и даже спросил, ел ли я сегодня. А я умирал от голода. Он дал мне выпить рюмку водки и съесть кусок бутерброда, а затем, заперев меня в чулане, вместе с моим отцом отправился к переплетчику-немцу; был уже двенадцатый час ночи. Переплетчик, выслушав рассказ, предложил гостям произвести обыск в вещах своего мальчика, и когда в них ничего не нашлось, разбудил мальчика, который давно уже спал, и начал допрашивать. Мальчик клялся и божился, что ничего от меня не брал, что даже и не видел меня накануне Нового года. Так, ничего не добившись, хозяин с отцом вернулись назад в мастерскую. Отец снова стал требовать меня к себе домой, но хозяин, в виду моего сознания, пригласил полицейского надзирателя. На вопрос полицейского, действительно ли я украл портмоне, я дал утвердительный ответ, и после этого отцу моему ничего не оставалось, как отправиться домой одному, меня же отвезли в полицию. В полиции прежде всего сняли с меня пальто и шапку и произвели обыск, причем отобрали и украденные мной в синагоге деньги. Их записали в книгу; затем отворили какую-то дверь, толкнули меня туда и дверь опять заперли на замок. В новом моем помещении меня сразу поразил страшно спертый воздух и скверный запах, исходивший от раскрытых параш. Лампа без стекла неимоверно чадила и еле освещала огромную камеру. Груда человеческих тел лежала беспорядочно на нарах и валялась на голом полу, в грязи, в рваных рубахах и в сапожных опорках на босую ногу. Со мной чуть не сделалось дурно, и я начал громко стучать в дверь и требовать холодной воды. Тогда один из арестованных, проснувшись, вскочил на ноги и закричал на меня: "Ты что тут за храп явился? Люди спят, третий час ночи, а ты шуметь вздумал? Смей только пикнуть, так мы тут по-свойски с тобой разделаемся". Понятно, что я не стал больше стучать, а, отойдя в угол, простоял до утра на одном месте, так как сесть или лечь было решительно негде. Поутру долго пришлось мне пробыть в канцелярии частного пристава, пока дошла очередь до меня. И здесь я впервые увидал, как пристав производил собственноручную кулачную расправу с сидевшими за пьянство. Когда он подошел наконец ко мне, я объявил ему, что не крал портмоне, а взял на себя это преступление единственно для того, чтобы не попасть в руки к отцу и не быть им наказанным. Услыхав это, пристав страшно рассердился, затопал на меня ногами, стал кричать и браниться непечатными словами и ударил меня по лицу так сильно, что из носу у меня фонтаном брызнула кровь. Он уже хотел отправить меня назад в часть, но тут явился мой отец; не знаю, о чем говорил он с приставом, так как я находился в передней, – только несколько минут спустя пристав крикнул меня и, когда я вошел, сказал: "Отпускаю тебя на поруки к отцу, но в будущую субботу ты должен явиться сюда, и тогда я составлю протокол". У меня сердце так и упало, когда я взглянул на спокойно стоявшего тут же отца: я знал, что он сделает со мной что-нибудь ужасное… Приведя меня домой, отец прежде всего связал мне руки и привязал меня к стене, говоря, что потолкует со мной после обеда, и так как дело происходило в субботу, то умыл себе руки, выпил водки и сел обедать "цоленд" (пищу, сваренную накануне, так как в субботу евреи не могут варить и стряпать). Он ел при этом так спокойно, как будто ничего и не случилось. Мать, все время глядевшая на меня со слезами на глазах, вздумала было и мне дать поесть, но отец схватил со стола нож и погрозил тут же покончить с ней и со мной, если она станет мешаться не в свое дело. Пообедав хорошенько, он встал и подошел ко мне. "Ну, теперь я с тобой поговорю. Скажи-ка мне, голубчик, куда ты девал портмоне". Я стал божиться, что не брал его, но он не захотел и слушать меня. "Ты рассказывай эти сказки приставу и своему хозяину, меня же ты не надуешь. Я тебе не поверю. Ты лучше скажи мне, куда ты его спрятал?" С этими словами он повалил меня на пол и начал бить подборами сапог по чему попало – по ребрам, по груди и голове. Тут я сообразил, что надо как-нибудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время и убежать: Я начал просить его, чтобы он перестал бить, уверяя, что тогда скажу всю правду. Отец остановился, и я с окровавленным лицом поднялся с полу. "Действительно, я украл портмоне, – сказал я, – и продал его одному крещеному еврею". Отец сейчас же оделся и велел мне вести себя к этому еврею. Я умылся (потому что был весь в крови) и, собрав последние силы, пошел, сам не зная, что из всего этого может выйти. Я уж и тем был счастлив, что хоть на один час отсрочивалась страшная пытка.
В Александровском рынке торговал старыми вещами один крещеный еврей; был также слух, что он принимал и краденое. Вот на него-то я и показал, хотя и в лицо-то даже плохо знал его. Мы пошли прямо к нему в лавку. Увидав нас, лавочник, видимо, испугался, так как хорошо знал, что еврей-фанатик, каким был мой отец, не придет покупать в субботу. "Ну, говори этому мошеннику прямо в глаза", – обратился ко мне отец. Мне было невыносимо совестно обвинять совершенно незнакомого человека, но отступать уже было поздно. Собрав все нахальство, к какому только я был способен в то время, и не сморгнув глазом, я сказал: "Отдайте портмоне, которое я вам продал за три рубля. Мой отец возвратит вам ваши деньги назад, потому что я украл эту вещь у своего хозяина, но теперь я сознался, и вещь надо возвратить". Лавочник с неподдельным изумлением вытаращил глаза: "Помилуйте, вы ошиблись… Я в первый раз вас вижу!" Но я сказал на это: "Разве вы забыли прекрасное серебряное портмоне, которое я принес вам под Новый год? Я знаю, вам жаль расстаться, потому что оно стоит в десять раз дороже". И видя, что он молчит, продолжая удивляться, прибавил: "Будет вам притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы заявим сейчас в полицию, и вас арестуют". Я говорил так искренно и так настойчиво, что отец вполне уверился в правдивости моего показания и, с своей стороны, обратился к торговцу сначала с ласковыми убеждениями, а потом и с угрозами. Но, понятно, из всего этого ничего не вышло. Очнувшись от минутного столбняка, вызванного крайним изумлением, торговец начал кричать на нас и выгнал вон, грозясь, в свою очередь, нас арестовать. Были уже сумерки, и отец, опасаясь прозевать службу, повел и меня с собой в синагогу. Дорогой он опять начал сомневаться и говорил мне: "Невозможно ни в чем тебе верить! Ты ведь в десятый уже раз сознаешься, а потом отпираешься, и каждый раз выходит что-нибудь новое. И как это не можешь ты жить без приключений? Чего тебе не хватает, злой мальчик? От кого выучился ты воровать? В нашем роду не было воров. Я старался тебя воспитать как следует, выучил пятикнижию, талмуду, геморе, я не жалел на тебя денег, а ты вот чем мне отплачиваешь! Это все оттого происходит, что ты водишься больше с русскими, а священного нашего закона не исполняешь". Он так разжалобил меня своими речами, что я чуть было не упал ему в ноги и не признался во всем: но удержался, сообразив, что это ни к чему бы не повело, так как признаться мне было не в чем. Так мы дошли до синагоги. Тут нас окружила толпа ребятишек, и отец сдал меня им, приказав хорошенько караулить. Они облепили меня, как пчелы, и стали жестоко насмехаться, так что я готов был провалиться сквозь землю от стыда и бессильной злости: я был один, а их несколько десятков человек. Между тем на отца моего, как только он зашел в синагогу, тоже набросилась целая орава евреев: они тормошили его и наперерыв рассказывали, как я ночью разломал кружки и украл священные деньги. Такого удара отец мой не ожидал! Он тотчас же призвал меня и спросил при всех, верно ли это новое обвинение. У меня дрожали ноги от страха и язык прилипал к гортани, но не мог же я отрицать явного факта, и я сознался… Отец пришел тогда в такое бешенство, что схватил скамью и тут же хотел покончить со мной, но ему не дали этого сделать. Спросив у "габая",[31 - Габбай – староста синагоги, который ведает также сбором пожертвований.] сколько было в кружках денег, и узнав, что около пятнадцати рублей, он сказал, что заплатит за меня четвертной билет. После этого началась служба. По окончании ее отец повел меня домой, всю дорогу крепко держа за руку…
Дома он раздел меня донага и веревкой привязал за руки и за ноги к столбу, так, чтобы я не мог шевелиться; затем взял трость и начал ею меня бить, приговаривая: "Теперь я уж ни в чем. тебе не поверю, и потому не думай, что как только ты сознаешься, я тебя отпущу. Нет, мне теперь все равно, украл ты портмоне или нет, довольно и того, что ты меня опозорил в синагоге перед всем обществом. Значит, можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до тех пор, пока ты не кончишься у меня под руками. Я уж буду по крайней мере знать, что сам убил тебя, и ты не будешь больше ни воровать, ни позорить меня". Он поставил около себя графин водки и с каким-то странным наслаждением в лице продолжал мучить меня. Не вытерпев, я начал кричать; тогда он преспокойно взял платок и завязал мне рот так крепко, что мне не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за прежнюю работу, глотая по временам водку из чайного стакана. И, конечно, он сдержал бы свое слово – убил бы меня, если бы не пришла в это время из гостей ничего не подозревавшая мать и не увидала происходившего: отец, сильно уже охмелевший, сидел к ней спиной в одной рубашке и в брюках и хладнокровно, методически работал тростью, а я, привязанный к столбу и с заткнутым ртом, висел без малейшего движения, не издавая даже стона… Всплеснув в ужасе руками, она кинулась на двор, вскричала дворников и нескольких соседей и при их помощи с великим трудом успела вырвать меня из рук обезумевшего отца и развязать. Меня унесли без чувств в другую комнату и положили на диван. Мать послала за доктором, ему долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть к жизни. Предложили мне пищу, но хотя целые уже сутки я почти ничего не держал во рту, мне было теперь не до еды. Боли я, правда, никакой не чувствовал, но все тело мое было исполосовано и изрублено в куски; окровавленное мясо висело клочьями…
Позвольте мне здесь остановиться до завтра. Я не могу писать об этом без содрогания, не произнося проклятия родному отцу! Ночью со мной сделался бред. Доктор, осмотрев меня во второй раз, объявил, что со мной начинается горячка… Две недели пролежал я без памяти, и когда пришел потом в сознание, то чувствовал такую страшную слабость, что еще целых полтора месяца пролежал в постели. Отец стал обращаться со мной гораздо ласковее, и когда я настолько оправился, что мог разговаривать, объявил мне, что портмоне нашлось. Я полюбопытствовал узнать, каким образом, и он рассказал мне следующее. Портмоне был именной, с вырезанной на крышке фамилией владельца, и вот как-то случилось, что в то время, как я лежал в бреду, к одному часовых дел мастеру, хорошему приятелю моего бывшего хозяина, заходит какой-то господин купить серебряную цепочку и, расплачиваясь за нее, вынимает из кармана портмоне: часовщик сразу увидал на нем ту фамилию, которую называл ему мой хозяин. Не подав покупателю вида, что он что-либо заподозрил, часовщик завел с ним длинный разговор, а сам тем временем послал кого-то в участок, а также и к моему хозяину. Явилась полиция, начали расспрашивать неизвестного господина, у кого и как приобрел он портмоне: он немного смешался, но все-таки объяснил, что где-то купил. Тем временем подоспел и мой бывший хозяин. Он сразу признал не только портмоне, но и самого господина, который накануне Нового года, то есть в день пропажи, заходил к нему в мастерскую и торговал запонки, но не купил их. В участке в нем сразу узнали известного жулика, который ходил по магазинам и торговал разные вещи, причем никогда ничего не покупал, а лишь пользовался случаем кое-что стянуть. Вскоре он сам сознался и в краже портмоне, сыгравшего такую печальную роль в моей жизни. "Да, в этом случае ты невинно пострадал, – заключил отец свой рассказ, – это правда. Но ты украл деньги в синагоге, но ты, может быть, хотел украсть у хозяина золото… Да и раньше за тобой водились эти грехи… Словом, ты не вообрази себя непорочным как голубь. Слава твоя уже гремит, все знакомые указывают на тебя пальцами. Ты должен об. этом хорошенько подумать. Жил ты у меня смирно и честно, и никто тебя не знал, а теперь все тебя называют вором, и даже полиция тебя уже знает. Но я тебе вот какую сказку расскажу. В старые времена жил один нищий. И было ему уже девяносто лет, и стал он очень дряхл и слаб. И думает нищий: "Видно, пора мне помирать… Только как же это я прожил девяносто лет, а теперь вдруг возьму да и помру? И никто на свете не будет знать про то, что я когда-то жил. Обидно ведь это!" Достал нищий последние свои гроши, побрел в лавку и купил большой старинный меч. С этим мечом он забрался в сад к богатому и знаменитому в той стране вельможе. И вот, когда вельможа вышел прогуляться в сад, старик выскочил из своей засады и замахнулся на него мечом… Но свита вельможи, разумеется, тотчас же схватила преступника и вырвала из его рук меч. Тогда вельможа велел подвести старика к себе, гневно взглянул на него и спросил: "За что ты хотел меня убить? Разве я зло тебе какое сделал?" – "Нет, – отвечал нищий, – зла ты мне никакого не сделал, а только собрался я умирать, и захотелось мне оставить по себе какую-нибудь славу, чтоб народ говорил, что вот жил такой-то знаменитый вельможа и такой-то нищий хотел его убить". Засмеялся тогда вельможа и отпустил нищего домой без всякого наказания: "Иди, старый дурак, домой – видно и вправду пора тебе помирать!" Ну вот и ты, молодой дурак, захотел, видно, славы, как этот нищий? Только я тебе скажу, что ты гораздо глупее старого нищего, потому что тот на твоем месте уже не стал бы воровать разных игрушек, а украл бы что-нибудь такое, за что стоило бы по крайней мере отвечать". Такие поучения читал мне родной отец, и, признаюсь, они глубоко залегли мне в душу…
Оправившись от болезни, я перестал уже ходить к своему хозяину ювелиру: после двух несчастий, случившихся в самое короткое время, ему уж стыдно было принять меня в третий раз, и я остался дома. Отец взял с меня честное слово, что я больше не стану воровать, и определил в свой магазин стоять за конторкой, получать и отправлять товар – словом, сделал меня полным хозяином. Но я должен вам сознаться, что слова своего я сдержать не мог, хотя и долго крепился. У меня завелись знакомства с приказчиками и разной купеческой молодежью, я стал чувствовать нужду в расходных деньгах, мне хотелось побывать и в театре, и в зоологическом саду, и угостить товарищей, а отец был страшно скуп, и в награду за свою честность я не видал от него ни одной копейки. И вот я начал воровать, но так умно, что сводил всегда концы с концами и ни разу не был замечен. Так прошел еще целый год.
У нас была обширная торговля, и много было разносчиков, бравших у нас товар за известный процент. С одним из таких разносчиков, старорусским мещанином Иваном Брусницыным, молодым человеком лет двадцати двух, я особенно сдружился. Это был довольно недалекий и в трезвом виде замечательно смирный парень, совершенно еще не испорченный, так что дружба с ним, казалось бы, не сулила мне ничего дурного. Но на деле вышло не так. У Ивана Брусницына был старший брат, живший во второй роте Измайловского полка в старших дворниках у действительного статского советника Красинского, родом поляка. Красинский этот был страшный богач, имел собственный дом, но, неимоверно скупой, он жил в, третьем этаже в двух комнатах, а все остальное сдавал квартирантам. Старик был холост, но у него жила красивая молодая девушка, одновременно игравшая роль и горничной, и кухарки, и экономки, и даже, говорили, хозяйки. Младший Брусницын часто ходил в гости к своему брату в Измайловский полк и там познакомился с Лизаветой (так звали эту девушку).
Однажды в первых числах мая – я только что запер вечером магазин – приходит ко мне Брусницын, грустный и задумчивый, и говорит: "Знаешь что, пойдем в портерную, я тебе кое-что расскажу". У нас друг с другом не было никаких секретов. Придя в портерную, мы потребовали четыре бутылки пива, налили себе по стакану, и Иван начал свой рассказ. "Ты, поди, ведь знаешь, Мишка, как врезалась в меня Лизавета… Ну, я частенько хожу к ней, когда генерала не бывает дома. И вот сегодня она мне рассказала, что на днях они едут в Старую Руссу на минеральные воды. А генерал, между прочим, берет с собой двадцать пять тысяч рублей денег… Потом он уедет на три дня в Москву, а ее одну оставит эти деньги караулить… Ну и что же она удумала, Лизавета, как ты полагаешь, брат? Она предлагает мне тоже поехать в Старую Руссу и, когда генерал будет в отлучке, в Москве, прийти к ней и забрать эти деньги, а уж за последствия она сама берется отвечать. Так чисто, мол, все обделано будет, что и подозрения даже не упадет на меня. Просит все это хорошенько обдумать и завтра ответ дать, Я сдуру-то сказал ей, что подумаю, а теперь вот всего в жар и в озноб кидает, ведь в случае неудачи тут бог знает чем пахнет!" Когда он сказал эти слова, меня самого, в жар и в озноб кинуло, только не от трусости, конечно. Я подумал: двадцать пять тысяч! Ведь это такой капитал, из-за которого многим рискнуть можно… Отцовская притча попала, видно, на благодарную почву… Распив с приятелем четыре бутылки пива, я пригласил его в ресторан ужинать и там принялся доказывать ему всю выгоду предприятия, приводя на вид, что с такими деньгами он может из простого разносчика сделаться купцом первой гильдии и что такой счастливый случай выпадает на долю одного человека из миллиона; я просил его взять меня в товарищи и обещал все устроить так, как следует. После долгих уговариваний он согласился. Мы условились, что он завтра же объявит своему брату, будто уезжает на побывку домой, а пятнадцатого мая будет уже готов и станет дожидаться меня на вокзале Николаевской железной дороги. Сам я решил обмануть отца следующим образом. В Старой Руссе у него было несколько должников, давно уже не плативших ему по векселям; много раз он собирался туда поехать, но собраться никак не мог. Поутру следующего дня я завел с ним разговор об этих неисправных должниках, и говорил с намеренным раздражением; я наперед знал, что он опять скажет о своем недосуге, болезни и пр. И вот, едва только он сказал это, как я предложил себя к его услугам: если он дозволит, я съезжу в Старую Руссу и припугну должников, да кстати посмотрю, не выгодно ли там будет поторговать во время предстоящей ярмарки. Отец охотно согласился на мое предложение, назначил мне на дорогу тридцать рублей и отпустил на две недели. В назначенный день я попрощался с родителями, нанял извозчика и отправился на вокзал".
XV. Падение идет быстрыми шагами
"Брусницын уже поджидал меня.
Дорогой я не заговаривал с ним о деле, так как видел, что он не в духе, хмурится, нервничает, и, чтоб развеселить его, рассказывал разные забавные истории и анекдоты. На каждой почти станции мы пили чай, и я на свой счет угощал его винами и закусками. В седьмом часу утра мы приехали в Старую Руссу. Брусницын спросил меня, в какой из двух гостиниц мы остановимся – в "Лондоне" или "Петербурге". Мое воображение все время деятельно работало; во мне проснулись необыкновенная деловитость и проницательность; я заранее решил все предусмотреть и со всех сторон себя обезопасить; никогда в жизни не видав Старой Руссы, я уже знал ее из одних разговоров с товарищем как свои пять пальцев и потому, не думая долго, объявил, что нам следует остановиться в "Петербурге": я рассчитал, что эта гостиница, стоящая на набережной против собора, находится на, менее людном и шумном месте… В "Петербурге" я нанял две комнаты с отдельным ходом за два рубля в сутки, и сказал Ивану, чтобы он всем своим родным говорил, что приехал сюда с хозяйским сыном по торговым делам. После этого мы разошлись. Денег я в этот день ни от кого из отцовских должников не получил – все отговаривались плохой торговлей и сулились заплатить в скором времени. Весь следующий день мы бродили с Брусницыным без всякого дела по городу, осматривая торговую площадь и базар. На базаре нас встретил квартальный надзиратель и сразу узнал по моему лицу, что я приезжий. Он подошел ко мне и спросил, кто я такой, откуда и есть ли у меня билет. Билет мой оказался в порядке, и, просмотрев его, он велел только прислать его в часть для прописки. В этот день я получил от должников-евреев триста сорок рублей и немедленно отправил их отцу, не оставив себе ни копейки, несмотря на то, что собственные мои деньги уже подходили к концу; мне хотелось, чтобы отец вполне успокоился на мой счет и дал мне свободу жить здесь сколько понадобится. Я рассуждал так: я возьму часть отцовских денег, потрачу их, а вдруг наша затея не выгорит, и мне нечем будет пополнить сделанную растрату? Тогда я должен буду из-за каких-нибудь пустяков навсегда лишиться доверия отца, которое мне так необходимо. И вот я стал придумывать средство раздобыть денег из другого источника.
Вечером я пошел в парк и был там в театре, но все время меня неотступно грызла одна и та же мысль. При выходе из парка я зашел в магазин Попова купить папирос, и здесь-то пришла мне в голову безумная на вид, но вместе и блестящая идея – обокрасть этот богатый магазин. Но как осуществить подобный план? Город был мне мало знаком; товарищей для такого дела у меня не было, потому что Брусницын, конечно, ни за какие миллионы на него бы не пошел, и даже говорить с ним об этой затее было немыслимо; в довершение всего сам я ни разу еще в жизни не пытал своих сил на таких крупных и дерзких кражах. Но что-то упрямо говорило мне: "Все-таки я сделаю, сделаю это!" – и я всю ночь не мог заснуть, перебирая в голове сотни всевозможных планов, критикуя их и отбрасывая один за другим. И к утру я уже знал, что должен сделать.
Я успел за эти два дня подметить, что большая часть старорусских мещан по окончании работ поздно вечером возит для себя воду на тележках в особых маленьких бочонках в пять – шесть ведер, и я решил себе приобрести такой же бочонок и тележку. Поутру Иван позвал было меня погулять с своими друзьями, но я отговорился головной болью, и он один ушел на весь день, а я отправился на базар, сторговал там за 2 рубля 65 копеек тележку с бочонком и велел лавочнику доставить их ко мне на квартиру. Покупка была доставлена в. срок; тогда я снял с одной стороны бочонка обручи, выбил дно и опять надел обручи по-старому. Зачем это было мне нужно? А вот зачем. Я рассуждал, что если мне удастся забраться в магазин, то невозможно будет по главным улицам города тащить узел с товарами в ночное время – меня, наверное, арестуют. В бочонок же можно будет наложить что угодно и затем проехать взад и вперед раза три, не возбудив ни малейшего подозрения. Вечером этого дня я опять был в театре и при возвращении оттуда снова зашел в магазин Попова, купил папирос, орехов, конфет, пару апельсин. Мне не столько нужна была эта покупка, сколько хотелось обстоятельнее все высмотреть, и я нарочно мешкал, покупая разные мелочи. Выйдя затем из магазина, я долго прогуливался по противоположной стороне тротуара, желая посмотреть, как будут запирать магазин. Действительно, приказчики скоро замкнули его и ушли домой; тогда я приблизился и увидал два простых висячих замка, которые при случае нетрудно было бы и сломать, но рискнуть на слом замка в таком пункте было бы непростительной ошибкой: почти напротив, у входа в парк, всегда стоит сторож, и малейший неосторожный шум погубил бы меня. Поэтому я вынул из кармана заранее приготовленный кусок воска и. снял слепок с замочной скважины. Был уже первый час ночи, и я, крайне довольный своими наблюдениями, пошел домой. Дома я застал сильно подвыпившего Брусницына. Я объявил ему, что получил от отца телеграмму, обязывающую меня завтра же уехать на два дня в Новгород, и что поэтому я советую ему, вместо того чтобы платить даром деньги за номер, провести эти два дня у родных. Он согласился, что это резон и тотчас же захрапел. Как только я отправил его утром к родным, сказав, что и сам через час уеду, на душе у меня стало легче, бояться и стесняться теперь мне было нечего. Я поехал тотчас же в железный ряд подбирать по снятой модели ключи. Но и тут я был в высшей степени хитер и осторожен; я делал вид, что просто ищу замков попрочнее, и воскового снимка приказчику, разумеется, не показал. Подходящие замки были скоро найдены, и я, не торгуясь, расплатился. Всю остальную часть дня я не показывал никуда носа, сидя в своем номере и обдумывая все мелочи будущего преступления, причем подкреплял свой дух пивом и коньяком. Однако под вечер во мне заговорило что-то вроде угрызений совести; я спрашивал себя: хорошее ли дело я затеваю? Имею ли я право взять те деньги, которые, быть может, нажиты потом и кровью нескольких поколений? Было ли бы мне приятно, если бы меня самого кто обокрал? У. меня голова закружилась от этих не вовремя и некстати явившихся мыслей, и я, чтобы избавиться от них, оделся на скорую руку, вышел, запер свою квартиру и пошел наверх гостиницы послушать орган. Там я потребовал себе полбутылки коньяку и закуску. Однако и после того я не мог успокоиться и выпил для храбрости стаканчик очищенной, а затем отправился в театр. В театре, как сейчас помню, давалась "Бедность не порок",[32 - "Бедность не порок" – комедия А. Н. Островского (1823–1886).] пьеса эта сильно мне понравилась, так что я просидел до конца представления и окончательно развеселился. Из театра я вернулся домой. Ровно в час ночи я взял свою тележку, положил на нее бочонок, захватил стеариновую свечку, спички и ключи от купленных утром замков и отправился на Ильинскую улицу. Уже в близком расстоянии от магазина мне повстречался ночной сторож с колотушкой; я пропустил его мимо, завернул за угол и, поставив тележку, подошел к магазину. Тишина кругом была мертвая, только далеко где-то слышался стук колес. Вынув ключи, я отпер замки и потихоньку приотворил дверь; за ней была внутренняя стеклянная дверь, и если бы она оказалась тоже замкнутой, то мне пришлось бы или выдавливать стекло, то есть поднимать шум, или совсем отказаться от своей затеи. Но, на мое счастье или несчастье, она не была замкнутой. Осмотревшись еще раз кругом, я пошел за тележкой, подвез к магазину, растворил настежь двери, въехал в них и затем плотно затворил за собою. Сердце мое страшно билось – я чувствовал, что половина дела сделана, что я теперь полный хозяин магазина. Успокоившись, я зажег свечку, и первой моей заботой было направиться к конторке, где хранится выручка. Я нашел в ящике пятьдесят рублей бумажками, девятнадцать серебром и девять медью, всего семьдесят восемь рублей. Сосчитав и забрав эти деньги, я был несколько разочарован… Затем я начал осматривать товары: там был сахар в целых головках и пиленый в мешках, конфеты, пряники, шоколад, крупчатка, но больше всего было чаю собственной фирмы Попова, и я решил брать один только чай, так как это самый дорогой товар. Я наклал полную бочку пятирублевого и трехрублевого чаю – фунтами, полуфунтами, четверками и восьмушками. Накрыв затем бочонок мешком и обвязав шнурком, я погасил свечу, прислушался; приотворив слегка дверь, посмотрел, не идет ли кто по улице, и, уверившись, что все тихо и пустынно, спокойно растворил двери, вывез вон из магазина свою тележку, запер опять двери на замки и поехал с добычей домой. Дома я все это выгрузил и отправился за новой порцией. Короче сказать, я проделал эту операцию три раза. В последний раз я захватил, кроме чаю, триста сигар (по десять рублей сотня) и пятифунтовую банку конфет монпансье. Во время этих трех поездок встречались мне по дороге извозчики, ночные сторожа, запоздалые гуляки, полицейские – и никто, решительно никто, не подумал остановить меня. Дело в том, что за ночь можно встретить несколько десятков человек, едущих с такими бочонками по воду: иным засветло бывает некогда, а иным стыдно везти на себе воду – и вот для этого они выбирают такое время, когда все спят, и если попадется все-таки нечаянно знакомый, то, свернув в сторону, стараются сделать такую кислую рожу, что у того пропадает всякое желание признать знакомого или приятеля.
Окончив езду, я сложил весь чай в угол комнаты, накрыл простыней и лег спать, так как становилось уже светло. В семь часов утра я отправился на базар и купил там три деревянных ящика и несколько рогож. Там же я узнал о сделанной ночью покраже – весь город взбунтовался, как расшевеленный муравейник… Попов всю полицию поднял на ноги; заарестовали множество подозрительного народа. Порешили в конце концов на том, что некому было совершить эту дерзкую кражу, кроме старшего приказчика, потому что замки были целы, а ключи хранились у него… Словом, я находился вне всякого подозрения. Сжегши все чайные обертки, я ссыпал в ящики весь свой чай (книзу худший, а кверху лучший сорт), забил ящики гвоздями, обшил рогожами и отвез на вокзал, где и сдал в товарный поезд, а сам тоже взял билет до Новгорода. В Новгороде я продал чай одному еврею по восемьдесят рублей за пуд и, получив с него восемьсот рублей, на другой день вечером отправился назад в Старую Руссу. На вокзале меня встретил Брусницын, очень сердитый на то, что я вместо двух дней проездил три: по его словам, генерал с Лизаветой приехали еще накануне, и если бы он, Иван, сегодня наконец не встретил меня, то плюнул бы на все и уехал в Петербург. Приехав в гостиницу, я постарался задобрить Ивана и угостил его бутылкой мадеры. Тогда он объяснил мне, что утром у него назначено с Лизаветой свидание на базаре. Действительно, напившись на другой день поутру кофе, мы отправились на базар и повстречали там Лизавету. Она остановилась и, вступив с Брусницыным в разговор, спросила, кто я такой. Он отвечал: "Это мой хороший товарищ. Я нарочно пригласил его из Петербурга, так что перед ним можешь не стесняться. Скажи же нам, долго ли придется тут жить?" Она засмеялась: "Вишь какой нетерпеливый! Ну да утешься. Скряга мой завтра утром уезжает в Москву, и вечером милости просим на чашку чаю". На этом мы и расстались, и я пошел с Иваном погулять. В деньгах я больше не нуждался и скажу вам коротко, что в эти два дня прогулял с ним четыреста сорок рублей. Брусницын все приставал ко мне с вопросом, откуда у меня завелось столько денег, но я отделывался шутками и говорил: "Пей знай, ешь и гуляй, пока есть время! Кто знает, может быть, это мы напоследях гуляем". Я и не подозревал того, что эта шутка была пророческой…
В назначенный срок в двенадцатом часу ночи мы явились в гости к генералу Красинскому. Он действительно с вечерним поездом этого же дня уехал в Москву, и Лизавета с нетерпением поджидала нас. Она немедленно поставила на стол бутылку шампанского и закуску; впрочем, Брусницын еще и до этого был пьян и еле держался на ногах, я же, зная, какое дело нам предстоит, был только немного навеселе. Усадив нас, Лизавета начала: "Мне кажется, я составила хороший план. Деньги лежат в кабинете, в письменном столе. Мы взломаем дверь, и когда генерал вернется, я скажу ему, что в его отсутствие ворвались неизвестные люди и, приставив к моей груди нож, грозили меня зарезать при малейшей попытке закричать. Я упала, мол, в обморок и, что дальше было, не знаю, а когда пришла в себя, то нашла квартиру в беспорядке, все замки сломанными и даже наружную дверь растворенной. Если вам, господа, нравится мой план, то скорее принимайтесь за дело". Что касается меня, то, признаюсь, мне не по душе пришелся этот план: что-то как будто фальшивое звучало в ее словах, и глаза виновато, как мне показалось, бегали по сторонам. И у меня в эту минуту мелькнул в голове свой ужасный план: убить эту девушку и тогда взять деньги, чтобы не было лишнего свидетеля. Но, взглянув на Ивана, я должен был сразу выкинуть из головы все подобные думки: он так и таял перед Лизаветой и кричал пьяным голосом: "Согласен!.. Отлично!.." Вслед за тем он схватил лежавший в кухне топор и живой рукой сломал замок. Я пошел во внутренние комнаты, обыскал кабинет, спальню, перерыл все вещи – нигде не было ни одной копейки. Тем временем Лизавета успела окончательно напоить Брусницына, и, когда я вернулся в кухню, он уже спал мертвецким сном. Услыхав от меня, что никаких денег нет, Лизавета притворилась страшно изумленной и испуганной и пошла вместе со мной в кабинет на новые поиски, С места на место перекидывала она все вещи, рылась в ящиках стола и в бумагах (в то время как я стоял у дверей и наблюдал за каждым ее движением) и наконец с грустью обратившись ко мне, сказала: "Ну и маху же я дала! Значит, он увез деньги с собой… Да и как это я, дура, могла подумать, что такой скряга оставит здесь экую прорву денег!.." Тогда я поспешил к Ивану и, разбудив его, сказал ему на ухо, что мы погибли, что Лизавета подвела нас и что нам остается для своего спасения одно только – убить ее. Но Иван чуть не убил меня самого за эти слова, так что мне пришлось обратить их в шутку. И вот, чтобы не уйти из квартиры с голыми руками и не страдать даром, я захватил с собой серебряный столовый сервиз, золотые часы и еще кой-какие мелочи и на всякий случай взял с Лизаветы клятву, что она наших имен не выдаст (хотя и очень мало надеялся в душе на эту клятву). Вернувшись в гостиницу, Иван упал на пол и заснул как убитый, а я взял извозчика и съездил к одному фартовому еврею, которому продал все захваченные вещи. И хорошо сделал, потому что на другой же день около полудня – не успели еще мы с Брусницыным продрать как следует глаза – к нам заявилась в полном составе полиция. По всему городу ходил уже слух о произведенном у генерала Красинского грабеже, и в дверях, кроме полиции, толпилось множество постороннего народа: среди любопытных я заметил и обокраденного мной купца Попова… "Билет у вас в порядке?" – обратился ко мне пристав. Я вынул из кармана и подал ему свой билет. Посмотрев его, он сказал мне и Брусницыну: "Именем закона я пришел арестовать вас!" и велел квартальному надзирателю произвести у нас обыск. Ничего подозрительного не нашлось. Но вдруг Попов заявил приставу, что признает свою банку из-под монпансье, которая стоит у меня на столе: это, мол, та самая банка, которая была на днях украдена из его магазина. Открыли банку, но в ней оказалось уже не монпансье, а кофе. "По каким приметам вы ее признаете?" – спросил пристав. Попов отвечал, что, насколько ему известно, во всем городе нет другого магазина, кроме его, с конфетами этой фабрики, а также – что и эта банка пятифунтовая, как и пропавшая. На это я возразил, смеясь: "Может быть, вы и правы, что у вас была такая же банка, но эту я привез из Петербурга, а Петербург не Старая Русса – там в каждой мелочной лавочке можно достать все, что угодно. Так что ваше показание не есть факт". Таким образом, Попов остался с носом. Тем не менее нас отвезли в часть в сопровождении четырех надзирателей. Дверь из другой комнаты неожиданно отворилась, и в нее вошла наша приятельница Лизавета. Я сразу догадался, в чем дело, и принял такой вид, будто не видал ее никогда в жизни. "Эти ли господа были у вас ночью в гостях?" – обратился к ней пристав. "Да, эти самые", – ответила она твердо, с нахальством оглядывая нас. Мы с Брусницыным, с своей стороны, отперлись, и затем нас отправили в каталажку.
В тот же день я послал отцу телеграмму о своем аресте, прося его скорее приехать. Мне нельзя было не сделать этого уж и по одному тому, что при обыске у меня отобрали тысячу двести рублей, из которых девятьсот были отцовских, и если бы меня обвинили, то эти деньги могли бы пропасть и даже послужить мне уликой. Да и, кроме того, рано или поздно отец все равно узнал бы. На следующий же день с утренним поездом приехал в Старую Руссу генерал Красинский, вызванный по телеграфу Лизаветой. Как только он зашел в свой кабинет и увидал сломанным письменный стол, так и ахнул: у него пропали двадцать пять тысяч рублей!.. После этого ко мне с Иваном предъявлено было новое, еще более тяжкое обвинение: похищение со взломом и насилием не только серебряной посуды (в чем обвиняли накануне со слов Лизаветы), но еще и двадцати пяти тысяч рублей. Теперь для меня не подлежало уже сомнению, что деньги эти действительно существовали, но что они взяты были самой Лизаветой, мы же были приглашены ею лишь для отвода глаз. Словом, мы были одурачены, как последние школьники! После прочтения обвинительного акта нас стали формально допрашивать, причем и я и Брусницын показывали согласно, что мы знать ничего не знаем, ведать не ведаем.
К вечеру приехал и мой отец. Он был немедленно допущен ко мне, и я уверил его, что решительно не понимаю, за что меня арестовали, так как отобранные у меня тысяча двести рублей – его собственные, кровные деньги. На другой день меня перевели в тюрьму, и дело пошло своим чередом. Я очутился в первый раз в жизни в арестантской рубахе, халате и изорванных котах: записали все мои приметы и посадили в подсудимое отделение. Не стану подробно описывать начало своей арестантской карьеры, отмечу из нее лишь главные черты и важнейшие случаи. Арестанты встретили меня с первого же шага насмешливо и даже враждебно; тюремные иваны пристали ко мне с требованиями "за парашу", грозясь даже побить меня, если я не заплачу им десяти или по крайней мере пяти рублей. Но вскоре произошла в их отношениях ко мне странная, поразившая меня перемена. Арестанты отошли от меня, начали собираться кучками и о чем-то шептаться между собою; потом некоторые из иванов опять подошли ко мне, но уже с заискивающими речами и предложениями разных услуг. Мои вещи положили на нары, мне дали тюфяк, набитый соломой, и такую же подушку. Оказалось, причиной этой внезапной перемены был надзиратель, сообщивший им, что я украл двадцать пять тысяч и что этих денег у меня при обыске не нашли. "Славно, должно быть, припрятал, – похвалил меня надзиратель, – за такой куш и посидеть не жалко". У одних арестантов пробудилось вследствие этого уважение ко мне, другие надеялись урвать от меня малую толику, обыграв в карты или пустив в ход другой какой способ. Тут же по поводу меня и моего преступления в камере произошло несколько ссор, и я впервые познакомился с некоторыми образчиками воровского наречия: "Куда ты лезешь, что ты об себе понимаешь? – кричал один арестант на другого. – Ведь я тебя хорошо знаю. Ведь ты простой шармошник, ты только и умеешь, что таскать кисеты с табаком у пьяных мужиков! Ты больше ничего на своем веку не украл. А меня каждый знает! Я на скоки ходил,[13 - Скоком называется на воровском наречии кража, сделанная в каком-нибудь доме среди белого дня и в самое короткое время. (Прим. автора.)] я на доброе утро хаживал,[14 - Кражи на доброе утро совершаются летом, на рассвете, во время крепкого утреннего сна хозяев. Если последние все-таки проснутся от шороха, вор бросается наутек, не вступая с ними в борьбу. (Прим. автора.)] и я на ципы, случалось, хаживал".[15 - На ципы ходят в осенние и зимние темные ночи; тут нередко пускается в ход оружие. (Прим. автора.)]
Откуда-то нашлись такие даже субъекты, которые стали уверять, будто хорошо знают и меня самого, и моего отца, и моих братьев, которых, кстати сказать, у меня никогда не было. Явился вскоре самовар с чаем и французскими булками и бутылка спирта. От водки я, однако, наотрез отказался, подозревая тут какую-нибудь ловушку. Вдруг возле меня очутился разостланный коврик, и несколько человек уселись играть в карты. То же самое началось и в другом и в третьем месте, здесь в штос, там в стуколку, в марьяж, преферанс, кончину. Предложили и мне поставить карточку, и, как я ни упирался, говоря, что и играть совсем не умею, и не люблю, и денег у меня при себе нет, – ничто не помогло. Одни подскочили ко мне с предложениями дать взаймы сколько угодно, другие уверяли, что в игре нет ничего не только мошеннического, но даже и трудного, что стоит моей карте упасть налево – и я выигрываю, и что нужен, следовательно, один только фарт. Кончилось тем, что я взял-таки взаймы десять рублей, и у меня отобрали их в какие-нибудь десять минут, прямо сказать, наверняка. Я не был еще в то время страстным игроком и потому продолжать игру не согласился, а, напившись чаю, крепко заснул. Вдруг посреди ночи страшная боль в ногах заставила меня пробудиться, и я с громким криком вскочил с места. Кругом была мертвая тишина; арестанты, укутавшись с головами в халаты и шубы, лежали на нарах. Опомнившись, я стал рассматривать пальцы ног и увидел, что кожа на них сожжена; это мне, как новичку, поставили мушку… Делается это так. Берут кусок бумаги, обмакивают в керосин, сонному обвертывают ею пальцы и поджигают. Когда я с испуга вскочил на ноги, бумажка отлетела. Утром я узнал, чья это была проделка, и решил отплатить насмешнику… Едва он заснул в ближайшую ночь, как я взял носовой платок, разорвал на полоски, намочил в керосине и, привязав полоски нитками к пальцам спящего, зажег. Когда пламя вспыхнуло, он с диким ревом вскочил и начал срывать с ног мнимую бумагу, но оказалось, не так-то легко сделать это. Поутру беднягу отправили в больницу и он пролежал там три месяца, а я сразу отучил арестантов от шуток над собой. Правда, днем собралась сходка, чтобы судить меня, но я подмазал глотку некоторым Иванам и меня оправдали. Так совершилось мое тюремное крещение…
Под судом я сидел целый год, и только в мае восемьдесят седьмого года меня приговорили наконец на год и четыре месяца к рабочему дому, но последний был заменен одиночным заключением; товарищ же мой Брусницын, как совершеннолетний, был осужден на четыре года в арестантские роты и отослан в Архангельск. Срок свой я отбыл в новой старорусской тюрьме, тогда только что построенной по образцу Дома предварительного заключения в Петербурге. Арестантам полагалась обычная скидка, но одиночное заключение строго не выполнялось. Тем не менее о старой тюрьме приходилось от души пожалеть, так как здесь не позволяли есть своей пищи, не позволяли иметь даже чай-сахар, а о табаке уж и говорить нечего: за одно имя его грозила неделя темного карцера… Словом, порядки были очень строгие, и те самые арестант ты, мои сожители по старой тюрьме, которым, казалось, и сам черт был не брат, веди себя здесь тише воды ниже травы, ломали шапку перед каждым надзирателем, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, как это и бывает со многими молодыми людьми, которых не укатали еще крутые горки, я начал свою арестантскую карьеру не тихим и робким поведением, а, напротив, дерзостью своей удивлял не только товарищей, но и само начальство. Со смотрителем я столько раз ругался, что он уставал сажать меня в карцер. Но я задумал еще и другое. Однажды по тюрьме пронесся слух, что к нам приедет один из великих князей. Смешно даже рассказывать, какая поднялась суматоха, как струсил смотритель и надзиратели. Меня из карцера перевели тотчас же в общую камеру, куда посадили еще пятерых несовершеннолетних крестьян, арестованных за порубку леса – кто на две недели, кто на месяц. В одиннадцать часов утра к тюрьме подкатило пять троек, и из них вышли великий князь и вся военная и гражданская власть города. Наш номер был первый от входа, и к нам зашли прежде всего. Войдя, великий князь вежливо поздоровался, но, кроме меня, никто не знал даже, как следует его назвать, и потому отвечал ему один я. Просмотрев у всех билеты, он обратился к нам с вопросом, нет ли у нас каких жалоб. Тут я и выступил вперед: Я показал хлеб, которым нас кормили и который был наполовину с песком;, показал наш общий бак, в котором подавался и обед и держалась день и ночь вода для питья, так что ее нельзя было пить от постоянного запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантам не дают кипятку, и в заключение сказал: "Не обращайте, ваше высочество; внимания на то, что в кухне вам подадут сегодня для пробы вкусный обед. Это делается только на один день, а завтра опять нас будут кормить гнилой капустой и тухлым мясом". С любопытством выслушав мой рассказ, великий князь обратился к смотрителю с вопросом, правда ли все это, но тот с перепугу только и мог сказать: "Ваше превосходительство!", и, смешавшись окончательно, замолчал. За него ответил что-то губернский прокурор, а великий князь в гневе вышел вон.
Все тотчас же переменилось. Смотритель поступил новый, кормить арестантов стали лучше, даже с воли начали все пропускать… Но я, не удовольствовавшись этим, удалил еще и старшего надзирателя, Василия Александровича. Собственно, это был добрый человек, но пьяница и в пьяном виде проделывал большие жестокости: для забавы он бил арестантов ключом и любил ставить, кроме того, головные банки, то есть забирал в один кулак волосы с макушки и, крепко натянув, ударял другой рукой по кулаку… Эта жестокая пытка была любимым его развлечением, и ради него он не дозволял арестантам стричься. Однажды, играя с арестантами, я слегка зашиб себе до крови голову, и вот, пользуясь этим случаем, как только зашел в мою камеру Василий Александрович и сказал: "Давай-ка, Мишка, волосы!" – я стрелой кинулся вон и побежал прямо к доктору, которому и заявил, что старший надзиратель ключом пробил мне голову… Доктор пришел в такое негодование, что, перевязав мне ранку, послал сейчас же за смотрителем и в присутствии его составил протокол. Говорили даже, что старшего отдадут под суд, но под суд его не отдали, так как он был дворянин, а только выключили в тот же день со службы.
Так незаметно окончился срок моего исправления (а вернее было бы сказать, развращения), и в апреле восемьдесят восьмого года я вышел из тюрьмы. За мной приехала мать и привезла с собой новую одежду, так как за два года я порядочно вырос и прежняя уже не годилась. Мы в тот же день поехали в Петербург. Отца застали еще в постели. При входе моем он поднялся и ласково поздоровался – в этот раз он вполне верил в мою невиновность. Он тотчас же предложили мне заведовать по-прежнему своей торговлей, и я с жаром ухватился за это предложение. Я должен вам сказать, Что, несмотря на всю свою развращенность, сидя в тюрьме, я много размышлял о своем прошлом и будущем и пришел к тому убеждению, что лучше всего на свете честный труд и кусок хлеба, заработанный с чистой совестью. И я думаю, что если бы люди были развитее и добрее, если бы они несколько иначе глядели на вещи и по-человечески, относились к тем, кто однажды сделал ошибку, то мое решение пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же попытке моей сблизиться с ними я получил ужасный нравственный толчок, какого никогда не ожидал: никто не только не подал мне руки помощи и доброго совета, чтобы удалить от прошлого и его грязных дел, а, напротив, каждый, казалось, спешил глубже толкнуть меня в пропасть преступления и разврата, так, чтобы я не мог уже остановиться и опомниться… Простите мне за эту философию, но слишком уж много пришлось мне тогда выстрадать, чтобы я мог теперь спокойно вспоминать и рассказывать. С первых же дней, как я стал за прилавок, я заметил, что отношение ко мне родных и знакомых совсем уже не то, что было прежде. Каждое их слово, каждая улыбка говорили мне о презрении, о желании уязвить меня, оскорбить, и это желание чудилось мне даже там, где его, быть может, и не было вовсе. И при всяком посещении магазина каким-нибудь знакомым меня бросало то в жар, то в холод; от одного взгляда этих людей я приходил в ярость и готов был на все… Это состояние начало наконец повторяться со мной так часто, что во избежание какого-нибудь безумного поступка я решил объясниться с отцом и умолять его отставить меня хоть на время от торговли. Его сильно удивило мое решение; не дав мне договорить, он сказал, что следовало гораздо раньше, еще два года тому назад, обо всем этом подумать и что если мне не стыдно было в тюрьму попадать, так не должно быть стыдно и в глаза людям глядеть. Словом, я увидал со стороны отца полное непонимание моей. душевной смуты; тем не менее я наотрез отказался продолжать ходить в лавку. Отец вспылил и хотел было поднять на меня руку, но он увидал в глазах моих что-то такое, что заставило его остановиться: перед ним стоял уже не прежний забитый и запуганный мальчик, а юноша, в котором пробудились совесть и сознание собственного достоинства…
Он махнул на меня рукой, и с этих пор я стал безвыходно сидеть дома, скучать, злиться на всех и отчаиваться. Все старое я презирал, а нового у меня ничего еще не было в голове. А между тем я был молод, во мне играла кровь… Я жаждал общества, деятельности, дружбы, задушевных бесед… Во время этого хаоса мыслей мне нужен был человек с понятием, который вывел бы меня из заблуждения, указал бы мне дорогу, куда я должен был идти. Но такого человека не нашлось. И поневоле приходилось мне незаметно для самого себя мириться со своим прошлым, оправдывать перед совестью свои дурные поступки. Мириться с прошлым, с этим позорным прошлым, которое стоило мне стольких слез, мук, отчаяния! И теперь, когда во мне пробудилась совесть, мне снова пришлось страдать и плакать бесплодно, без всякой пользы, так как судьбой было решено, чтоб я погиб окончательно и уже без возврата…
Тем временем отцу моему понадобилось подыскать новую, более удобную квартиру, и после многих поисков и трудов ему удалось найти подходящую во второй роте Измайловского полка. Летом мы переехали туда, и тут я был страшно поражен, узнавши, что дом наш принадлежит генералу Красинскому. Но не успел я еще опомниться от первого удивления, как, выйдя на двор и взглянув из любопытства наверх, увидал в окне третьего этажа… Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая меня некогда погубила! Едва веря собственным глазам, я с час времени точно в столбняке простоял на одном месте, хотя в окне давно уже никого не было. Я весь дрожал как в лихорадке и в эту минуту готов был на какое угодно преступление! Мне было душно, я весь горел; как пьяный вышел я на улицу и машинально, без всякой цели, отправился, куда глаза глядели. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадал из-за этой женщины, все мое недавнее прошлое, как живое, встало передо мной… Мне хотелось ей мстить, страшно мстить, и я придумывал, как бы лучше сделать это. Одно время мне пришло даже в голову вскочить среди бела дня в квартиру генерала и жесточайшим образом изрезать Лизавету на мелкие куски… Но я отогнал эту мысль: не Лизавету, конечно, было мне жалко, а не хотелось себя самого подвергать опасности. Зато, говоря по. чистой совести, я с удовольствием исполнил бы. свой план где-нибудь в укромном месте, вдали от людских взоров.
Возвращаясь поздно вечером домой, я был уверен, что там ждут меня неприятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо всем своему генералу, и тот немедленно отказал моему отцу от квартиры. Однако опасения мои не оправдались: как в этот, так и в следующие дни все было у нас спокойно, и отец ничего не подозревал…"
На этих словах рукопись Шустера, к сожалению, оборвана. Случилось это таким образом.
Во время треволнений ломовского периода, длившихся около двух месяцев, мне было, конечно, не до учеников с их автобиографиями; они сами хорошо понимали это, и учение и писательство временно приостановились. А когда личные мои тревоги окончились и я готов был вернуться к обычному образу жизни и обычным занятиям, снова начал интересоваться обществом своих невольных сожителей, их горем и радостями, то, к удивлению своему, увидал, что в отношениях арестантов к Шустеру опять успела произойти резкая перемена к худшему. Снова все сторонились от него, отказывались с ним есть из одной чашки, ругали его "поганым жидом" и вообще выказывали величайшее презрение. Сам Мишка Шустер имел опять запуганный и какой-то растерянный вид; он смирно лежал на нарах в своем углу, углубившись в писанье или другую какую работу, и, казалось, не замечал того, как к нему относится камера. Но невнимательность эта, несомненно, была деланной; подходя к столу за своей порцией пищи, он каждый раз виновато опускал голову и пугливо бегал глазами по сторонам. Ясно было, что его в чем-то поймали, уличили… Я недоумевал. Но вот однажды в отсутствие Шустера в камеру вбежал Сохатый, сконфуженный и вместе разъяренный.
– Убирайте от меня эту стервину проклятую! – закричал он, швыряя долой с нар подстилку своего недавнего приятеля.
– Что так? Аль разонравилась Катенька? – иронически спросил кто-то из кобылки.
– Да кто ж ее знал, сволочь, что она… такая? Вы чего ж молчали, коли слышали?
– Полно! Будто ты не знал? Сохатый закрестился обеими руками:
– Вот тебе крест и пресвятая богородица, не знал! Да от нее, от падлы, еще заразу получить можно: кажный день, говорят, в больницу ходит, от сифилиса лекарство берет.
– Вот так штука! Вся тюрьма отлично знала, один Сохатый у нас младенцем был! Поверите ль этому, братцы?
Сохатого подняли на смех. Окончательно переконфузившись, он заплевался, разразился громкими проклятиями и стал топтать ногами тюфяк Шустера, продолжавший валяться на полу.
Вечером на поверку явился давно не бывавший в тюрьме бравый капитан. Неожиданно для всех Шустер обратился к нему с жалобой:
– Господин начальник, мне не дозволяют на нарах спать.