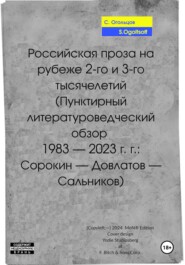По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Затем, сквозь леденящий мрак снаружи, меня в одной пижаме повели в пятое отделение сдать дежурному медбрату. Тот препроводил полученного в просторный зал, скудно освещённый из пары плафонов на стене плюс тусклое их отражение в тёмном стекле далёкого окна на противоположном краю зала. Шеренга остеклённых дверей выстроилась в левой стене, имелись и в правой, но намного меньше. Медбрат завёл меня в одну из левых, указал свободную койку и вышел…
В останках света сочившихся через стекло в двери, я различил полдюжины коек с укрытыми фигурами поверх них и призрачно-белыми тумбочками между. Подавляя невольный страх, я разделся и лёг.
По-видимому, меня не ждали и появление незнакомца вынудило обитателей палаты затаиться, но постепенно они оттаяли. Кто-то невидимый спросил меня из угла я ли это, на него зашикали и он умолк.… Я воздержался отвечать. Из зала за стеклянной дверью донёсся отдалённый вопль и – тоже оборвался. Я лежал—укрытая фигура, как и все здесь—и, с одной стороны, радовался, что таки успел в понедельник, но одновременно боролся с приливами насторожённости, понимая среди какого окружения оказался.
– А что, Костя, хотел бы сейчас домашней колбаски? – обратился один из невидимых фигур к неразличимому собеседнику.
Меня охватил необоримый смех – до чего же быстро они меня вычислили!. Тремя днями ранее, когда мы с Ирой покидали Чернигов после совместного посещения 4-го километра, она рядом с вокзалом купила кольцо спиралевидно закрученной домашней колбасы. Вкусная оказалась.
Несколько голосов из темноты подхватили и продолжили экспертное обсуждение той самой колбасы и её специй, а я давился смехом, выфыркивал его ноздрями, а зубами стискивал уголок подушки, чтобы меня случайно не сочли за психа. В какой-то момент мне не хватило сил сдержаться и дискуссия испуганно прервалась…
~ ~ ~
Утро началось слитным шарканьем множества шлёпанцев за дверью в зал. Охомутанный белотканым вафельным полотенцем на шее, в тяжких копытах из кирзовых сапог, я вышел туда же и, следуя стрежню течения пришлёпывающих пешеходов, нашёл умывальник и туалет. Затем последовал завтрак из хавки, как хавка.
С прибытием врачей на 4-й километр, Тамара заглянула в зал и окликнула меня по фамилии. Я приблизился принести извинения за позднюю явку (но в понедельник!), она простила меня великодушно и скрылась восвояси.
Общество в зале оказалось смешанным, многолюдным, многообразным и пребывающим в состоянии шумного Брауновского движения. Абсолютно бессистемного… Единственным (за исключением меня) кирзовым вкраплением оказался индивидуум среднего возраста с обритой, как у зэка, головой. В отличие от меня, он валялся на плитках пола возле белой батареи отопления под подоконником окна в дальнем конце зала. Временами бритоголовый притискивал свой перед к заду не менее теплолюбивого сибарита, что валялся там же. Старания ухажёра вызывали утомлённое ворчанье и ленивый отпор вялыми толчками всё того же зада.
Бродившая по залу толпа в шлёпанцах сосредоточенно хранила погружённость в свои персонально-внутренние миры, выныривая, порой, оттуда с непостижимыми для посторонних восклицаниями.
И только инвалид на низенькой тележке не бродил, а ездил сноровисто толкая пол руками и умело выбирая курс в потоке их бродячих ног. Он явно банковал в непогружённом сегменте общества способных понимать инструкции и разъяснения и являлся мобильным центром тусовки в стиле стихийного чёрного рынка.
Пара щеголевато Реальных Пацанов держались особняком, прогуливаясь сквозь окружающую неразбериху. Темноволосый косил под пахана и подавлял блондина своим как бы наличием интеллекта.
Молодой человек Центрально-Азиатской внешности пригласил меня сыграть с ним в шашки за столиком в дальнем углу. Каждый глаз в его лице двигался отдельно от соседнего, как после лоботомии, благодаря которой полушария мозга перестают вмешиваются во внутренние дела друг друга и каждое рулит отдельным глазом. Игра давалась нелегко, он умел оказать неосознанное, но эффективное психологическое давление—залипнуть взглядом в доску и вместе с тем блуждать вторым по движущейся вокруг толпе, чтобы затем поменять их ролями. Становилось жутковато. Впрочем, играть жертва удачного хирургического вмешательства вовсе не умел и когда на доске осталась лишь одна из его шашек, я предложил ничью, а от последующих приглашений уклонялся. Как отказался и от предложения сыграть в картишки с Реальными Пацанами…
Спиной к окну между запертой дверью во двор и дверью в коридор медперсонала восседала белая фигура тучной медсестры и ни во что не вмешивалась. Трон свой она оставляла лишь после обеда – чинно прошествовать рядом с каталкой, что неспешно въезжала из коридора, торжественно поворачивала и достигала центра зала.
– Лекарства! – Взвивался радостный клич в различных концах толпы.
Они сбегались, грудились в толкучку вокруг кормушки на колёсах, выхватывали кому что приглянётся в россыпи поверх клеёнки—таблетки аптечных расцветок и величин. Вскоре после в толпе появлялись стеклоглазые. Чёрный рынок переживал заметный рост обменных операций.
Чтоб чем-то коротать безгранично свободное время, я пошёл путём Ленина и Дин Рида, разминочно меривших камеру шагами. Зал, разумеется, предоставлял больше простора и позволял выписывать широкие эллипсы орбиты. От окна в одном краю до окна и запертой двери в другом. И снова. И снова. И снова. Безжалостный убийца времени…
Движущихся тел в зале хватало с избытком, мне приходилось лавировать, уклоняться, избегать столкновений, тем более, что пространство я преодолевал довольно скорым шагом.
Некоторые обратили внимание. Блондин из пары Реальных Пацанов принялся выбивать ритм барабанов судьбы по обложке толстой книги, которую постоянно носил подмышкой, в такт топоту моих сапог по полу.
– Чё ты дуру гонишь? Оно те нада? – прокричал мне вслед его пахановатый кент, который косил под издёрганного интеллигента.
– Попробуй – сам приколешься! – откликнулся я, уносясь к дальнейшему апогею в моём эллипсе.
Один из активистов Брауновского движения, плотно роившегося у стен, вдруг раскусил в чём суть. С радостным курлыканьем он тоже начал выписывать эллипсы орбиты, правда не вдоль,
а поперёк зала.
– Огольцов заразил Баранова! – заверещал из толпы какой-то сексот с доносом белой королеве на троне. Но та ни во что не вмешивалась.
Ходить было больно, потому что правый оказался «испанским сапогом» из арсенала орудий пыток Святой Инквизиции – на два размера меньше моего. Я продержался всего день, а на второй решил, что хватит из себя Русалочку строить и обратился к медсестре. Она покинула свой трон и отлучилась в медкоридорчик, принести мне тапочки общего образца, только расшлёпанные вдрызг. Моё движение по орбите обрело безболезненность, но и ощутимо замедлилось…
Стоит что-либо поправить, как тут же м вылезет следующее нестерпимое неудобство. Например, пуговица в поясе пижамных штанов, что постоянно выстёгивается из чересчур раздолбанной петли. Мне надоела жизнь с подстраховочной ухваткой за верх штанов, чтобы они не падали. и я вновь вывел медсестру из состояния летаргического невмешательства просьбой об иголке с ниткой.
Как только ремонт завершился, другая медсестра взошла из врачебного коридора и огласила список идущих в Клуб. Среди оглашённых прозвучало и моё имя…
Наш недюжинный караван (тринадцатою оказалась медсестра, она же предводитель-проводник) неспешно поглощал пространство по прямой, хотя случались и повороты, замыкающий в строю нашей пижамной цепочки оказался одетым в чёрную робу рабочего. Одолев подъём ступеней, мы оказались в длинной галерее перехода в следующее здание. Пожухлое предзимнее поле за окнами подсказывало отдалёнными стрелами в чёрно-жёлтых щитах-указателях путь к невидимому аэродрому. На подоконниках теснились кактусы в горшочках в сопровождении рукописных инструкции на случай сердобольных, но агрономически безграмотных караванов: «кактусы не поливать!»…
Клуб оказался классическим клубом со сценой перед залом фанерных сидений и наглядной агитацией по стенам:
Хлеб – всему голова!
Экономика должна быть экономной!
Будет хлеб, будет и песня!
вперемешку с листами блошино-кирпичных поцелуев подлиннее, убористым шрифтом.
Наш замыкающий тормознулся у первого же от входа текста и – прикипел задрав голову вверх и временами почёсывая кепку в районе темени, для чего ему приходилось вынимать руки из-за спины в традиционной народно-бытовой позиции привитой вездесущей Зоной.
Я сел в последний ряд. Над сценой зажглись софиты, на неё вышел человек в докторском халате с баяном на ремне через плечо и выражением неудовольствия лица потревоженного в неурочный час.
Ещё две медсестры приконвоировали следующий караван – дюжину женщин в серых халатах поверх казённо-белого исподнего белья. Две-три из них прошли к сиденьям в середине зала, где их тут же обсели пара Реальных Пацанов. Им бы семечек туда и клуб из классического превратится в реальный…
Баянист заиграл и в проходе перед сценой начались танцы… По центральному проходу женщина лет сорока летящей девичьей походкой пронесла милую улыбку в конец зала и пригласила меня на белый танец.
– Извините, вальс никак не умею.
Она ушла унося опущенное лицо. Утрата. Утрата…
Всё дальше катились Дунайские Волны Штрауса, но вальса никто не танцевал, а просто топтались на месте, по парно. Пара пар поднялись на сцену. В одной из показательных оказался юноша с асинхронными глазами. Но на этот раз оба его взгляда скрестились в общей точке, запутавшись в высоком мягком пуху серой мохеровой шапочки его партнёрши – медсестры в белом халате. Кто кого приглашал?.
Дам увели первыми, а затем уже и наш караван. Замыкавший нас рабочий мужик оторвался от всё той же цитаты в настенном плакате и занял привычное место в строю, так и не разжав извечной зэковской смычки рук за спиной…
~ ~ ~
Помимо накручивания орбитальных витков по залу и визитации клубного бала, я ещё читал. Пришлось попросить блондина из пары Реальных Пацанов выдать мне его подмышечный том, по которому тот барабанил и он с готовностью согласился. Это оказался сборник рассказов Тамаза Чиладзе в переводе с Грузинского. Мне понравился, хотя в оригинале, наверняка, лучше. Он способен прозрить невидимое всем, которые как все. Они незрячи. Не обучены.
На третий день я сидел у окна рядом с запертой дверью во двор, куда опускался первый снег из медленных тихих снежинок. Я то посматривал на них, то читал Судьюи Палача Дюренматта, из соседней палаты, читанную много лет назад. У меня за спиной, суматошил, орал, бормотал, спотыкался весь этот современный мир в срезе и преломлении пятым отделением четвёртого километра. Он мне уже наскучил.
Но дочитать я не успел – лёгкий стук в стекло снаружи заставил поднять голову. На тонком покрове мягкого снега стояла Ира, она улыбалась мне. Медленные снежинки безмолвно проплывали вокруг её лица в охвате плотной шапочкой из чёрных ниток. Так красиво…
Медсестра принесла мою одежду и я вошёл в палату переодеться. Потом я вернулся в зал, где частицы общества не вполне утратившие связь со здесь и сейчас пришли в изумление, что я так скоро покидаю придворную жизнь. Кто-то, пряча своё истинное лицо за столпотворением Брауновского движения, злобно выкрикнул, что так нельзя. Но это, наверняка, не Баранов был, он – жизнерадостный.
Взвинченный близостью освобождения, я сделал шаг вперёд, вскинул руку со стиснутым в ораторской манере кулаком и выкрикнул, что благодарен всем за всё и обещаю помнить. В ответ вспыхнул стихийный митинг, но я уже сделал шаг за стеклянную дверь во врачебный коридор. По пути в кабинет Тамары, в какой-то открытой пустой комнате, я увидал одинокую старуху в халате и головном платке. Она ползала на четвереньках по полу выстраивая большие кубики, размером чуть крупнее кирпичей, в две неровные линии.
Тамара сказала Ире, что моё лечение ещё не начато, но раз уж она так настаивает то пусть забирает и не надо слишком переживать – такие отклонения как у меня вполне обычная аномалия среди докторов наук. Это она так утешала Иру.
(…правда на меня этот капкан не сработал, к тому времени я уже нашёл эффективный способ держать свою мегаломанию в узде, но Ира, по-видимому, поверила мнению специалиста. Во всяком случае, два года спустя на мой день рождения она подарила мне однотомник Валентина Плеханова, да, того самого сукина сына, что завёз инфекцию марксизма в Россию.