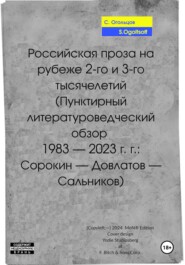По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…в точности как говорил мой отец: —«Сидят, зарплату получают, а чуть что "Я не Копенгаген! Я не Копенгаген!"»…)
Черниговская психбольница располагалась за четыре километра от города, с подсказкой, для особо непонятливых, в названии конечной остановки автобуса «4-й километр». Ворота в высокой бетонной стене заведения весьма удобно соседствовали с остановкой. Внутри ограды медучреждение выглядело как комплекс зданий в современном стиле крупноблочной архитектуры способной украсить и городской центр, если бы не загородное местонахождение.
Мы приблизились к этим, облицованным красноватой плиткой, сооружениям различной высоты. Некоторые из них соединялись герметичными мостами переходов на уровне второго этажа, другие наземными галереями. Иру явно угнетал этот угловатый Bau Stile, потому что не каждый приемлет авангардистский минимализм столь характерный для этого направления. Нет, я не пропагандирую рококо или барокко, но работы архитектора Корбюзье мне больше по душе.
Я сопроводил погрустневшую Иру до нужного отделения. В небольшом кабинете с одним окном, нас приняла черноволосая женщина в докторском белом халате по имени Тамара… э-э… Тамара… к сожалению, отчество память не сохранила. А за столом у окна сидел мужчина хорошо тренированной наружности, тоже в белом.
Тамара гостеприимно пригласила нас сесть на мягкий диван под белым холстяным чехлом вдоль стенки, а сама вернулась в кресло напротив. Затем последовала беседа ни о чём конкретно, но когда она спросила меня о моих предпочтениях в музыке, качок под окном принялся громко подсказывать: —«Эстрада, конечно!», и я понял, что его присутствие тут не только гарантия безопасности Тамары на случай, если я окажусь буйный. Поэтому мне пришлось признаться в двоякости предпочтений: Элла Фицджеральд и Иоганн Себастьян Бах ведь я дуру не гоню, когда речь заходит о чём-то главном в жизни.
Тамара сказала Ире, что мои отклонения не носят опасный характер, однако, если Ира хочет и я не возражаю, они могли бы меня подержать для более пристального наблюдения.
Я не возражал, только предупредил, что в субботу у моего брата свадьба, на которую мы с Ирой приглашены и, если Тамара сочтёт это возможным, я бы вернулся на 4-й километр в понедельник. Даю слово.
Тамара благожелательно выразила согласие и проводила нас в коридор. Из-за стеклянной двери в конце его доносился приглушённый шум многочисленного сборища…
~ ~ ~
К тому времени мой брат Саша уже перешёл из ПМС в ХАЗ и работал на каком-то усложнённо-продвинутом фрезерно-шлифовальном станке… ХАЗ, вообще-то, не являлся ХАЗом, а лишь филиалом Харьковского авиационного завода. В филиале самолётов не собирали, а изготавливали запчасти различной конфигурации, паковали в ящики и отправляли в сам ХАЗ или другие его филиалы в других городах. Конотопчане филиал ХАЗа для краткости именовали просто ХАЗ и стремились туда устроиться ради высоких заработков. Саша получал 200 руб. в месяц! У остальных рабочих выходило меньше, потому что там был только один такой сверхточный станок. Следующее преимущество ХАЗа – его его географическое положение на Посёлке, в обед можно сходить домой и похавать.
Имелся всего один, но довольно досадный недостаток – ХАЗ заставлял работать больше восьми часов в день. Нет, трудовое законодательство не нарушалось. Саша покидал рабочее место ровно в пять часов. Однако работа настигала его и дома. Он жаловался мне, что даже наблюдая футбольный матч по телевизору, он прикидывает в уме рабочий план на завтра: какие детали точить с утра, а какие после обеда. Мне жалко было брата, но как помочь ему я не знал…
С зарплатой в 200 руб., на Посёлке можно смело заводить семью. Избранница Саши, Люда, работала в «Оптике» на Зеленчаке, и тоже была с Посёлка. К тому же, она была завидной невестой с двумя отдельными хатами – папиной и маминой. Родители разошлись, но без развода, что сразу же снимало проблему жилья для молодых: не так, так – так. Остаётся только жить припеваючи… Так брат мой стал примаком.
В подарок молодым, Ира хотела купить постельное бельё, но в магазинах даже след простыл всех этих простыней. Плановая экономика развитого социализма оправдывала пропажу Всемирной Спортивной Олимпиадой, которую предстояло через год принимать в Москве, исчезнувший товар понадобится столице для застилки коек в Олимпийской Деревне.
(…забегая вперёд скажу, что и два года спустя постельное бельё оставалось острым дефицитом, мне жутко представить что понаехавшие в Москву всемирные спортсмены вытворяли на койках в той Деревне…)
Поэтому Ира мудро рассудила, что постельное бельё быстро износится, а кувшин из симпатично-красного стекла—если не разбить—может запросто и до серебряной свадьбы простоять в серванте со своими стаканчиками.
Поскольку свадебная суббота совпала с днём рождения нашей матери, я решил подарить ей цветы. Гаина Михайловна настойчиво спрашивала, какие могут быть цветы на двадцать четвёртое ноября, но я всё равно пошёл на базар.
На мосту через Остёр я увидел мужчину с букетом в руках, в сопровождении двух дам. Вид всех троих не имел ничего общего с торговлей, но и место своё на тротуаре они не покидали. Тогда я почувствовал, что они тут неспроста, подошёл и спросил, не продаст ли мне он цветы… Изумлению тёщи не было границ, а я продолжал чувствовать, что где-то в Одессе или в каких-то параллельных ей мирах, мною сделано что-то правильное и благодарные союзники об этом не забыли…
Мы поехали в Конотоп электричкой 15:15. Счастливое событие происходило в трёхкомнатной хате на улице Сосновской, где цветы тоже вызвали общее удивление, которое переросло в изумлённость, когда я вручил их не невесте. Тут Саша вспомнил какой это день и успокоил гостей.
Затем последовала традиционная свадьба примака. Единственное отличие, что в ходе её я бросил курить. Это случилось из-за соседа по застолью, который начал меня убеждать, что невозможно расстаться с этой привычкой, особенно на любой гулянке. Я потушил папиросу и – всё.
(…и до сих пор я некурящий. Даже и не знал, что завязывать так просто – дождись свадьбы брата и – вуаля?! как сказал Пушкин в юношеской пробе пера на Французском…)
Утром следующего дня на Декабристов, 13, Ира объявила о моём намерении ехать на 4-й километр под Черниговом. Последовал бурный обмен мнениями между мной и моими родителями. Они категорически разбушевались и настоятельно требовали, чтобы моя нога и близко не появлялась в упомянутой окрестности. Мне никак не удавалось донести до их сознания разгорячённых ораторов, что я уже пообещал быть там в понедельник. Как выжить в мире, где не можешь положиться даже на собственное слово?
После этого риторического вопроса, Ира перешла на сторону моих родителей и уже объединёнными усилиями они пытались переубедить меня. Только Леночка молча сидела в дальнем углу раздвижного, но сложенного диван-кровати.
– Ну, что? Выучила на свою голову? – упрекнул мой отец мою мать. Затем он обернулся ко мне. – Всё для тебя делали. Теперь ты сделай что тебе говорят. Или отец с матерью тебе не такие? Чем это? Скажи!
– А и скажу! – ответил я и пристукнул кулаком по скатерти стола. – Ты почему перестал писать стихи?
Отец осёкся. В явном замешательстве, он прятал глаза от жены и невестки. Даже в глубоких морщинах на лбу проступала невиданная прежде застенчивость: —«Ну… я молодой был… тогда война была…»
(…вот жизнь, а? Начинаешь элементарно дуру гнать и нарываешься на чистосердечное признание…
А нынче он с поэзией завязал по полной, переключился на ораторское искусство. Долгими зимними вечерами одевает валенки и отправляется на сходку соседей своего возраста под фонарь на столбе у хаты Колесниковых. Стоят кружком там на утоптанном снегу, перетирают новости, что им вчера вливала программа Время на ЦТ, спорят до хрипоты, рожают истину – Муамар Каддафи стоящий мужик или такой же клоун, как Ясир Арафат?..)
В виде компромисса, постановили, что перед отъездом в Чернигов я схожу с матерью к местному психиатру Тарасенко, от которого (тут мой отец жёстко прищурил глаз) ещё никто не уходил. Потом я проводил Иру на электричку и всю дорогу она старалась убедить меня не ездить на 4-й километр. Однако моё слово Тамаре уже выпорхнуло и возвращаться в клетку не желало…
В большом светлом здании Конотопского Медицинского Центра, недалеко от стадиона Авангард в городском парке отдыха, люди толпились у каждой двери и только дверь в кабинет психиатра резала глаз своей безлюдной невостребованностью. Когда мы с матерью туда зашли, Тарасенко объяснил этот факт несознательностью населения, тогда как там, за бугром, каждый четвёртый ходит на приём.
Кабинет Тарасенко содержал медсестру-помощницу и стандартную меблировку медицинского учреждения. Но в расстановке мебели чувствовался тревожащий диссонанс. Основную странность вносил стол. Мало того, что стоял он в центре кабинета, так ещё и развёрнут не в ту степь – все дверцы-ящики лицом к двери.
Мне предложили сесть за стол. Мать опустилась на стул под стеной, а врачебный персонал так и остался стоять по обе стороны от стола. Слева и справа, наизготовку.
Мне совершенно не понравилась такая диспозиция, призванная раздувать во мне манию величия – сидишь тут, как Председатель Мао, а эти двое в белом над тобой, как золотые рыбки на посылках. Поэтому мы со стулом чуть выдвинулись вспять и развернулись на 90 градусов вправо, чтобы подчеркнуть свою непричастность к столу со странностями. Для вящей убедительности я ещё и ноги вытянул вперёд и положил одну ступню на предыдущую, в позе ковбоя на привале.
Но Тарасенко со своей помощницей не дали отдохнуть и, словно по команде, бросились распахивать и хлопать дверцами стола, выдёргивать ему ящики и с треском шарахать обратно… Оказавшись в гуще такой буйной сцены насилия, ноги я, конечно, подтянул поближе, но продолжал сидеть, хотя насторожился: шо за херня тут ващще творится?!.
Когда изуверы убедились, что я не выпрыгнул за дверь и не пытаюсь вскарабкаться на шторы-жалюзи, Тарасенко прекратил мытарить стол и объявил меня здоровым как бык.
– Вы это ему скажите! – воскликнула со всхлипом моя мать. – Хочет в Чернигов ехать, в психбольницу!
– Зачем?
– Его жена послала.
– Она врач?
– Нет!
– Тогда зачем? Мало ли кого куда посылают. Он что ей? Раб, что ли?
– Да! Да! Раб!
(…послушай Иосиф Яковлевич, он же Прекрасный. Оно, конечно, не в кайф, когда твои же братаны? продают тебя в рабство, но что запел бы ты, красава, если тебя матушка родимая сдала?.)
Тарасенко ещё раз запретил мне, уже как рабу, куда-либо ехать и мы покинули весёлый кабинет, куда по-прежнему не было желающих.
– Ну что? Убедился? – спросила моя мать, когда мы шли на остановку трамвая.
– Это ничего не меняет.
– Если с тобой что-то сделают, я убью её! – сказала моя мать и заплакала.
– Мам, – ответил я, – какую ты недавно книжку прочитала?
Конечно, я отлично знал, что мать моя давным-давно уж перестала читать книги, но если ты благовоспитанный собеседник, то обязан вежливо поддерживать разговор…
Из-за приём-сдачи меня в рабство и нестыковок в расписании движения поездов, на 4-й от Чернигова километр я добрался лишь поздно вечером. Однако оговорённый понедельник всё ещё длился и я с полным правом стал долбить в железо ворот, что нашло отклик в неразборчивых воплях охранников из домика проходной. Они недовольно включили свет и начали выспрашивать сквозь дверь чё мне нада, имя Тамары послужило паролем. Подошли ещё двое в байковых синих халатах и повели меня в приёмную.
Там пришлось обменять свою одежду на пижаму и пару армейских кирзовых сапог. Левый был моего размера, но правый жал бесчеловечно. Вероятно в отместку, что побеспокоил их в столь поздний час.