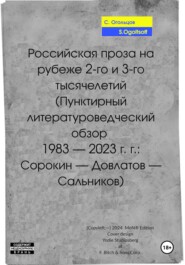По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушаюсь, товарищ капитан!
Ну да, когда мы подходили к строящейся девятиэтажке, я послабил ремень на гимнастёрке, совсем немного, откуда я мог знать, что он вывернет из-за деревьев лесополосы. И начал прокручивать застёгнутый на мне ремень, за каждый оборот бляхи на 360? – один наряд.
В тот день я во всю старался выслужиться перед сержантом, который послал меня ровнять лопатой грунт под прокладку бордюров. Как я хуярил! Метров двести, не меньше, в надежде, что за моё усердие сержант похерит наряды.
"Два солдата из стройбата
Заменяют экскаватор…"
Пара прохожих по близлежащему тротуару, под впечатлением от моего рвения, подошли с предложением распить бутылку вина, которую они несли мимо.
– Нет, спасибо! Я не могу.
На вечерней проверке, сержант поманил меня пальцем – «на полы!»
“На полы» значит – когда все улягутся на свои койки, подметёшь центральный проход и проходы между кубриков, принесёшь воды от умывального корыта рядом с сортиром и промоешь всю шестидесятисемиметровую казарму с её кубриками, бытовкой и тамбуром впридачу.
Делай это в два приёма. Шаг первый: мокрой как хлющ тряпкой, промой каждый ёбаный сантиметр линолеума на полу. Шаг второй: прополощи тряпку, выжми насухо и повтори Шаг первый. И чем чаще меняешь воду в мытье полов, тем лучше, чтоб из-за мутных разводов по линолеуму не нарваться на приказ дежурного сержанта перемыть заново.
Потом пойди и доложи сержанту, что наряд исполнен и ждёт проверки. И если он примет с первого раза, можешь делать запоздалый отбой и радоваться, что сегодня вечером тебя не послали «на полы» в столовую, откуда такие же «нарядчики» как ты ещё не возвращались. Разденешься, ляжешь и в тот миг, когда голова твоя коснётся подушки, услышишь:
– Рётьааа падьоооом!
~ ~ ~
– Ванька? в психушку увезли.
– Какого Ванька??
– А, сам знайиш – шрам на темени.
– За что?
– Утром не стал обуваться, грит, в сапоги мыши влезли.
– Косит или заёб зашёл в голову?
– Да, хуй его знает, там разберутся.
Первый выходной у нас случился в августе. До того дня с полдевятого и до темна пахали на объектах. И вдруг—ни с того, ни с сего—целое воскресенье в расположении части. «Молодые» постирали свою пропылённую вонючую хэбэ? форму. Развесили стирку по белой кирпичной стене вдоль пустынной дороги и бродили между бараков в чёрных трусах, белых майках и чёрных кирзовых сапогах, как те спортивные Фрицы с автоматическими шмайсерами в кино Один Шанс из Тысячи.
За период до первого выходного, наша бригада-отделение забросила привычку салютовать свистом-криками придорожной Зоне у развилки с шоссе. А по утрам с безоблачной погодой, на пути в сортир, мы перестали замирать уставясь на невиданную диковину – снега далёкой вершины Эльбруса, зависшие в небе над свинарником. Рядовой Алимонов, он же Алимоша, научил меня докуривать стрельнутый у товарищей бычок Примы, покуда не останется миллиметра три бумаги от обреза сигареты.
А один раз у нас даже была получка. Старшина первой роты, седой мужик под пятьдесят, под крепким градусом, вызывал нас, по одному в свою комнату-каптёрку и выдавал по рублю с мелочью каждому, а остальное натурой – кусок белой тряпки на подворотнички, пару баночек сапожной ваксы и катушку белых ниток для пришивания подворотничка, когда его простирнёшь. Но в его ведомости мы расписывались за 3 рубля 80 копеек, конечно, потому что каждому известно, кого ни спроси – зарплата рядового Советской армии составляет 3 руб. 80 коп. в месяц, это такая же аксиома, как про впадание Волги в Каспийское море.
Посреди лета, на вечерней проверке, замполит роты объявил, что моей жене послана справка, по её просьбе, что я прохожу службу в армии.
– А ты не говорил, что женат, Голиков.
– А ты не спрашивал.
(…им-то некогда было в колониях для малолетних преступников…)
Ольга, Конотоп, завод, танцы, всё начало казаться чем-то нереальным, словно сны из другой далёкой жизни. От неё приходили письма – «…а как вечером вижу как девушки со своими парнями идут гулять а только я всё одна и одна то так обидно аж плачу…»
Мать тоже письма писала, сестра-брат прислали по паре штук. Я не знаю что писать в ответ «Здравствуй, получил твоё письмо, за которое большое спасибо…» А дальше? Что дальше писать? «…отслужу, как надо, и – вернусь…»?
Ничего в голову не лезет. И уже даже самой простой мысли подумать не могу, чтобы без матерщины. Как-то слова не связываются. Просто пиздец до чего блядь деградировал на?хуй.
И ведь же – самые близкие люди, роднее некуда, а какая-то во мне отстранённость.
Отстранённость?
Ну, типа той, что я почувствовал, когда уже в глубоких сумерках сидели мы в грузовике под белой стеной незавершённой девятиэтажки и дожидались какого-то «деда» каменщика, который ещё не переоделся. Ещё один «дед», уже в кузове, начал приёбываться к Мише Хмельницкому—от не?хуй делать, просто время скоротать—за то, что тот хохол.
Миша отводил глаза за борт и бормотал, что он не хохол, а просто фамилия такая. Остальные «молодые» угрюмо помалкивали, а «дед» начал насмехаться – что за паршивый призыв с Украины, что ни одного хохла не привезли!
– Ладно, я – хохол, ну и что?
Только лишь когда эти слова каким-то странным эхом вернулись от массы кирпичной стены белеющей в темноте, мне дошло, что это я сказал. Странно слышать себя со стороны, особенно, когда не ожидаешь, какая-то чувствуется при этом непонятная самоотстранённость. «Дед» заткнулся. И правда – что с того? Или вообще хоть с чего-то?
Позже Миша Хмельницкий открылся мне как бы вроде заступнику, который отманивал угрозу от гнезда, что он тоже женат и добавил интимных подробностей, как ему всегда хотелось поссать жене в пизду после этого, ну для хохмы просто, только никак не выходило.
Я промолчал, но про себя порадовался, что процесс эволюции хомо сапиенса предусмотрел анатомический механизм предотвращающий хуёвые шутки таких вот пизданутых на всю голову ёбарей-хохмачей…
Конечно, мои товарищи по оружию не знали таких терминов как «эволюция» или «сапиенс», зато без запинки могли пересказывать нерифмованные строки какой-нибудь статьи из Уголовного Кодекса СССР.
– А ты по какой ходил?
– Статья шестьсот седьмая, часть вторая, пункт Б, при отягчающих обстоятельствах.
– Чё пиздишь? Такой статьи ващще нету!
– Не пижжу. Ввели недавно. За людоедство.
Как оказалось, татуировка не просто симпатично романтичное украшение, но и изотерические письмена—для посвящённых, которые в курсе—отчёт и летопись: за что осуждён, как высоко поднялся в лагерном Табеле о Рангах носитель данной татуированной кожи. А кто загремел по полной и пожизненный получил, так те у себя на лбу делают наколку «Раб СССР».
Но опять-таки не все одинаковы. Один из моих корешей по службе вернулся с Зоны с аккуратной строкой на предплечье, неброским скромным шрифтом, из трёх слов – «in vino veritas». С такой татуировкой запросто можешь и за доктора философии проконать. Латинист, ебёна вошь.…
Но имеются и определённые табу. За татуировку не по чину, попытку прибавить себе авторитета через наколку превышающую воровской статус индивидуума в преступной среде, предусматривается жестокая, зверская расправа, порой вплоть до высшей меры наказания.
И со словом «вафли» тоже надо осторожней обращаться. После той ополовиненной получки от старшины, Алимоша зашёл в магазинчик военторга у ворот и, уставя палец на пачку вафлей, сказал продавщице: —«А дай мне тех печений в клеточку». Но уловка не спасла от замечаний сослуживцев.
– Чё, Алимоша, на вафли потянуло, а?
– Пошёл на?хуй, – огрызнулся Алимоша.
На языке Зоны, имя невинного продукта питания издавна обозначает сперму проглоченную при минете, такая вот игра слов.