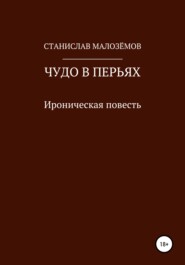По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Обстоятельства места. Сборник рассказов и эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом круге томятся Иуда, Брут (http://www.aif.ru/infographic/9_krugov_ada_po_dante_infografika) и Кассий (http://www.aif.ru/infographic/9_krugov_ada_po_dante_infografika). Кроме них также попасть в этот круг обречены всяческие предатели – Родины, родных людей, близких, друзей.
Теперь скажите – разве это не мы? Разве это не с нами творится всё, описанное Алигьери как ад, здесь, в наших родных и дорогих городах и весях? Нет, конечно, ни Цербера видимого глазами, ни Минотавра, ни Плутоса.. Да и Бог с ними. Но мы – то себя узнаём! Это же мы, каждый в своём кругу. Или нас, таких виновных и порочных людей, как просчитал Данте – нет? Или нам очень хочется думать, что, возможно, и есть такие, но это не мы…?
Я помню и думаю о смерти. Смысл жизни этой – в ней одной. Не потому, что я старый и смерть где-то тут уже, наступает на пятки.. Я помню о ней, как будто уже не раз умирал и иногда немного здесь жил. Я понимаю её как единственную бесспорную истину, обязательное великое событие , которое означает, что я искупил вину мучениями и справедливая Высшая сила заберет меня из ада.
И не известно- надолго ли заберет…
Философия одиночества
Идеального одиночества не бывает. Идеальное – оно ведь страшное. Оно по жуткости обгоняет голливудские страшилки с бензопилой и как бы обкуренными зомби. Ужас полноценного одиночества в том, что куда ни плюнь – ни в кого не попадаешь. Нет никого.
Мух нет!!! Повторю для убедительности тем, кто не полностью осознал ужас: НЕТ МУХ!!! Цеце, помойных, зелёных, толстых как вертолет и дрозофил нет. Никаких вообще. Ты есть, а мух нет! Кому рассказать – не поверят ведь. Но рассказывать некому. Нет никого. Одиночество только.
Простых бомжей – как унесенных ветром – нет даже в самых раздолбанных подвалах. Не говоря о заколдованных в камень дикторах ТВ, бесноватых телеведущих и птицах голубях, которые обычно и сами всюду, и в тебя сверху попадут всюду и всегда. Отсутствует всё перечисленное. Ты сам один ходишь по любому запрещенному пространству и руки тебе не вяжут, в обезьянник не несут. Можешь лезть туда, где табличка с траурной каймой « НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ». Потому, что не убьет. Включать то, что должно умертвить гарантированно наповал – некому. Нет никого нигде.
При полновесном одиночестве нет даже твоего отражения в зеркале, в магазинах нет мерчендайзеров и, самый кошмарный кошмар – кассиров и оловянных солдатиков-охранников нет. Бери сколько войдет запазуху и подмышки, и неси. Но куда? Нигде никого нет и дать кому-нибудь что-нибудь понюхать из взятого даром – не дашь ничего. Некому! Вот оно, хрестоматийное одиночество!!
Но это ещё можно пережить, хотя будешь попутно болеть оспой, чумой и холерой, которые хоть и не так страшны, как одиночество, но зато безопасны. Потому как никого нет кругом и заразить хочется хоть одного, но некого, да и как их лечить – всё равно никто не помнил бы, если бы вообще был. Но нет никого.
Пережить невозможно то, что некому дать в морду. Одинокий бродишь ты по закоулкам, чтобы встретить поперек дороги негодяя, который прикажет нагло:– Эй, ты, доходяга, закурить дай! И ты вместо закурить, потому, что бросил, даёшь ему быстро в морду, чтобы он не успел дать тебе раньше. Но нет никого в закоулках. Полицейские под заборами не сторожат преступников. Потому, что никого нет. Преступников тоже унесло ветром перемен и одиночества. И полицейским нефиг торчать в подворотнях, хотя бы потому, что их самих тоже нет.
Пережить невозможно и отсутствие женщин. Любых. Уборщиц, бизнес-леди, сиделок у платных туалетов, злобных медсестер со шприцами наперевес, тёток, продающих на базаре пончики в огромных полиэтиленовых пакетах, юных дурёх, изуродованных татуированными бабочками, змейками и китайским иероглифами, которые они не смогли выколоть только на зрачках глаз, воспитательниц маленьких мерзавцев, чьих-то несуществующих маленьких злодеев, которых не произвели на свет те, кто должен был произвести, но не смог, потому что его нет. И женщины нет. Можно, конечно, порыться, поискать в капусте, но кому это надо? Тем более, что – где? И кто рыться будет? Нигде никого!! Одинокий ты идешь в дамскую святую-святых – в солярий, потом в тайскую массажную, в контору по выращиванию когтей, ресниц, грудей и сбриванию не с головы волос. Но ужас: пусто и там. И мух тоже нет!! Нет мух – нет жизни! Потому как одиночество, да без мух и женщин – это совсем уж и не жизнь.
А куда деваться? Где быть не одиноким?
И тут тебя озаряет внутренняя заря! Осеняет тебя скрытое временно в глубине головы спасение! Есть же пока не идеальное, можно даже сказать банальное и тривиальное, совсем не страшное одиночество. Оно не настоящее, оно придуманное, чтобы только напоказ страдать понарошку в жизни прекрасной и удивительной, где кругом сплошной восторг, веселье, гульба с балалайками да гармошками, девчонки с айфонами, юноши в прыщах, но на папиных «тойотах» и с «парламентом» в еще молочных зубах. Где всюду, куда ни плюнь, мухи на выбор. зеленые, серые, полосатые, даже тараканов тьма – хоть продавай, причем в любом месте, достойном жизнедеятельности граждан. А страдать – лицедействовать притворно прямо-таки надо. Иначе будешь недооценен приличным обществом, которое видит в страданиях от одиночества всё самое человечное в самом человеке. И душу трепетную чуют, и аристократизм, и даже каким-то образом видят в тебе интеллигентность и внутренний надрыв, что возвышает и приносит социальную пользу.
И ты тогда идешь куда? Правильно идешь. Домой. К жене. Ей тоже одиноко, бедняге. Вот пьёте вы на кухне вечером какао с печеньем, отгоняя от стаканов зеленых мух и заедая какао сыром «пошехонский», и хорошо вам, потому, что ждете – кто первым застрадает одиночеством. Минут через десять после окончания сыра и печенек она тихо говорит, глядя в пустой стакан как в могилу: – «Боже, как мне одиноко!». И, нервно заламывая ручки с крошками печенек на пальцах, усилием мощной воли выдавливает из одного глаза сразу две слезы, что не любой сумеет. «Боже, как одиноко мне в этом мире!!»
Вот в этом месте ты гладишь её по спине, по шерстяной кофте, и утешаешь:
– Ну, успокойся, дорогая. Ты же веришь в бога, раз уж с ним разговариваешь?
Он тебя тоже любит. И он всегда с тобой!
– Всегда со мной, – эхом повторяет она, отрывая взгляд от дна стакана.
– Значит ты уже не одна и не одинока!
– Не одинока, – повторяет она монотонно, как сомнамбула.
– Ну, вот и славненько, – говоришь ты и глядишь за окно. А там, конечно – пустота. Ни машин, ни шагов, ни тёток с пончиками, ни девчонок с кольцом в пупке. Никого. И мух не видно. Нет мух! Никаких. Ни цеце, ни толстых зеленых. Как положено в идеальном одиночестве.
И ты идешь к зеркалу, чтобы убедиться, что и в зеркале – тоже никого…
Хохма
Жена сантехника Забодаева Люся пришла с работы весёлая и принесла ему
бутылку розового крепкого.
«Завтра, значит, купит себе сапоги с переплатой», – ужаснулся Забодаев, хотя подарка не отверг.
– Импортные, что ли, сапожищи? – спросил он робко, наливая себе в фужер.
Супруга молча заглянула под кухонный шкаф, но пустой бутылки не нашла и поэтому сильно удивилась:
– Ты чего это, Вась, портвейн с сапогом спутал? А я, ненормальная, старалась… Первый апрель, как никак, день смеха, а ты, я же знаю, без этого дела даже не улыбнёшься. Пусть, думаю, праздник как у людей будет. Эх, Вася…
– Гы-гы-гы, – искренне обрадовался Забодаев тому, что сапоги с переплатой отменяются. – ну ты, мать, даёшь! Во, разыграла! Один – ноль! Давай, садись, анекдот расскажу, раз день смеха…
Но не успели Забодаевы зажевать анекдот консервами «Скумбрия с добавлением масла», как в дверь позвонили.
– Если Витька Хребетюк – не пускай, – сказала жена Люся. – Пусть сначала обои шахматные достанет, если пообещал.
Забодаев открыл дверь и почесал затылок. У порога стояла толстенькая волосатая собака ситцевой расцветки и что-то жевала. Он выглянул на площадку, но больше никого не увидел.
– Брысь, Жучка, – пугнул Забодаев друга человека и собрался захлопнуть дверь, но тут собака перестала жевать и внятно, без всякого акцента сказала:
– Кстати, относительно Жучки… Зовут меня в действительности Бобик Барбосович, тем более, что я к вам по делу. Извините, что поздновато…
Забодаев прижал ладонью зашевелившийся чубчик и ощутил жгучее желание перекреститься. Собака понимающе вздохнула, вытерла лапы о половик и вошла в прихожую.
– Собачья сырость на улице, – сказала она, покашливая. – Третий день насморк мучает, сил нет… Ну, так чего мы стоим?
Забодаев, не двигаясь, ещё раз усиленно почесал затылок и натужно хихикнул.
– Всё ясно, – сказа Бобик Барбосович и сочувственно помолчал, – психологический барьер. А вы представьте себе, что вы тоже собака, так нам обоим будет легче…
Забодаев сразу послушался, пошевелил воображаемым хвостом и, действительно, почувствовал, что уже может говорить.
– А ты это, не транзисторный? – спросил он шёпотом. – Не синтетика какая-нибудь, не со станции юных техников?
– Обижаете, Василий Петрович, – скривился Бобик Барбосович. – Да нешто я так неважно выгляжу в связи с насморком? Вот, глядите, натуральная шерсть, зубы, вот…
– Одно плохо, – продолжал Бобик невесело, – с родословной у меня совсем собачья история вышла… Дед, говорят, был у меня пудель, отец мой, Барбос, тоже, а я вот… В общем, пришлось взять фамилию хозяина. Так что теперь я – Хребетюк Бобик Барбосович…
– Ё-моё! – радостно взвыл Забодаев. – Так ты, выходит, Витюши Хребетюка пёс! Ну, хохма! Ай да Витька, ай юморист! Вот это я понимаю – первое апреля. Так разыграть!
– Слышь, мать! – крикнул он на кухню, – иди бегом сюда! Тут Хребетюк собаку говорящую прислал!
– Ну, и чего она тебе наговорила? – выглянула супруга Люся. – В чём дело?
– Действительно, – засмеялся Забодаев, – что там случилось у Хребетюка?
– Да он, собственно, попросил меня занять у вас пять рублей до вторника, – сказал Бобик, глядя в пол, – не хватило ему, говорит, на кефир…
– Нет, ну я потрясена, я просто поражаюсь! – очень взволновалась супруга. – Это же просто феноменально! Он, видите ли, уже даже за деньгами ленится прийти, нахал!