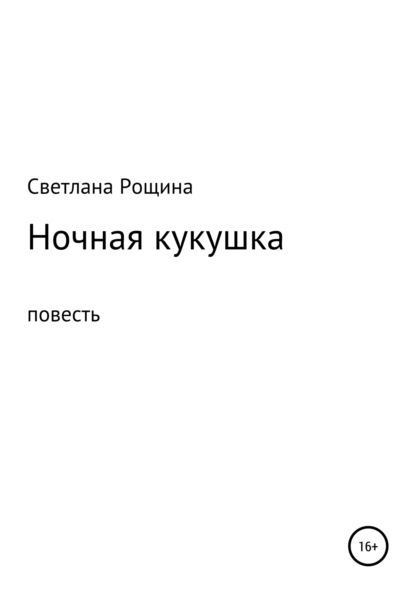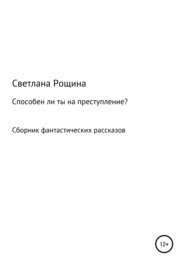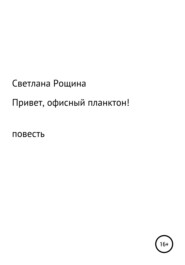По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночная кукушка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чтобы предупредить меня!
– Вообще-то я замужем по вашей с мамой милости! И теперь, если кого-то я и должна предупреждать о своих планах, то только своего мужа! Так что не обижайся, но время позднее, и я пошла спать, – сказала я, завершая неприятный телефонный разговор.
Мне было жутко стыдно перед подругой и безумно обидно за то, что родители всё ещё пытались контролировать каждый мой шаг исключительно для того, чтобы в своём сознании создать иллюзию благополучной семейной жизни. Наверное, следовало ещё тогда послать их куда подальше, разорвав всяческие отношения, которые ничего, кроме неприятностей и боли, мне не приносили, но врождённая интеллигентность не позволяла мне это сделать. В душе я тоже хотела сохранить иллюзию семейного благополучия, только вот платить за это мне предстояло слишком дорогой ценой.
Мы с мамой никогда не вели разговоров по душам. Собственно, мы вообще не вели с ней никаких разговоров. Когда я обращалась к ней с каким-либо вопросом, она всегда отвечала односложно, пытаясь побыстрее отделаться от меня.
Так, когда у меня начались месячные, я растерялась. В советское время ещё не было такой развитой сети информации, как сейчас. Я, конечно, слышала, как мои одноклассницы обсуждали эту тему, но не считала нужным к этому прислушиваться. Я от природы не любопытна и всегда придерживаюсь принципа, что в нужное время всё узнаю. И поскольку проблема гормональной перестройки организма передо мной не стояла, я ею не интересовалась. Пока однажды жарким июньским днём, когда у нас только закончилась школьная практика, это не случилось. И поскольку, повторюсь, я не была достаточно просвещена в данном вопросе, я позвала маму в ванную комнату.
– Мама, я не знаю, что со мной происходит, – сказала я ей, показывая испачканные трусы.
– Это – месячные, – ответила она будничным тоном. – Девочки тебе, наверное, об этом говорили, – добавила она и посмотрела на меня так, словно призывала ответить положительно на свой вопрос.
– Да, что-то говорили, – неуверенным тоном пролепетала я.
– Можешь взять на полке в шкафу тряпку и положить её в трусы. Да, и ещё во время месячных может болеть живот. Это нормально, – ответила она и вышла из ванной.
Я поняла, что разговор окончен, и о дальнейшем мне предстоит догадываться самой. Поэтому я пошла в комнату и достала с полки тряпочку. Сложив её в несколько раз, положила в трусы и затем стала заниматься какими-то делами. А через пару часов меня скрутило так, что я еле сдерживалась, чтобы не завыть. Боль была такая, что я не могла стоять на ногах. Я легла на кровать и думала о том, что если бы мне сейчас предложили на выбор: умереть или продолжить терпеть эту боль, я бы выбрала первое.
Мама видела, что я лежу на кровати, корчась от боли, но делала вид, что ей это безразлично. Хотя, возможно, так оно и было. А через некоторое время ко мне в гости зашла Алла. И я рассказала ей о своей проблеме, и подруга стала просвещать меня. Оказалось, что это безобразие ожидает меня каждый месяц на протяжении нескольких десятков лет, пока я не состарюсь. И, чтобы я не сошла с ума от боли, Алла предложила выпить анальгин, чтобы я могла хоть немного прийти в себя. Я даже попросила подругу почитать мне вслух книжку, чтобы чуть-чуть отвлечься от этой безумной боли, сотрясавшей моё тело. И часа через четыре спазмы стали утихать. Я даже смогла выйти погулять, конечно же, в сопровождении подруги. Но на следующий день всё повторилось снова. И так целых семь дней. А потом это повторялось каждый месяц на протяжении почти десяти лет, пока я не родила дочь. Но и тогда боли не исчезли, а стали более или менее терпимыми. Их уже можно было снять с помощью обезболивающих препаратов. Но тогда, в школьные годы, это было не просто проблемой, это стало для меня настоящей трагедией.
Мать отказывалась мне покупать какие-либо лекарства, утверждая, что на них нет денег, а отец всё время обзывал лодырем и притворщицей, когда мне приходилось несколько часов подряд проводить в постели, корчась от боли. Бывали случаи, когда я даже теряла сознание, падая прямо посреди квартиры и приходя в себя от новой порции боли, полученной при падении, но и это не давало моим родителям повода смягчиться и начать относиться ко мне более внимательно.
Никто не относился ко мне так плохо, как родители. Даже учителя в школе с пониманием относились к моим проблемам. Они знали, что если я позеленела и потеряла дар речи, то мне действительно плохо, и тут же отпускали с уроков, да ещё и давали кого-нибудь из подруг в сопровождение, чтобы я не рухнула где-то на улице.
Но стоило родителям увидеть меня на пороге квартиры в неурочное время, как тут же начиналась обвинения и оскорбления в мой адрес. Отец обзывал меня прогульщицей, а я ничего не говорила в ответ. У меня не было на это сил. Я падала в постель, мучаясь от боли, пока родители поносили меня, на чём свет стоит.
К слову, когда у сестры начались месячные (хотя никаких болей и обмороков, как у меня, у неё не было), мама тотчас взяла её за руку и отвела к врачу, который выписал ей кучу лекарственных препаратов, в том числе витамины и средства, повышающие гемоглобин. И мама сразу же всё это купила, а когда принесла домой, строго-настрого запретила мне прикасаться к лекарствам Линулинки. Но я бы и без её запрета не взяла у сестры без спроса ни одной таблетки, так как всегда считала, что обязана стойко переносить все физические муки. А когда боль была особенно невыносимой, я надеялась, что вот-вот умру, и тогда все мои страдания сразу же прекратятся, и в этом случае таблетки мне тем более не понадобятся.
А однажды, когда мне было только тринадцать, мама позвала меня на кухню и сказала:
– Светка, ты знаешь, что аборты – это очень плохо?
От услышанного у меня чуть челюсть не отвалилась, потому что я совершенно не понимала, к чему это было сказано. Парня у меня не было, так как я целыми днями пропадала в школе и на различных общественных мероприятиях, да ещё и на танцы ходила. Но в нашем танцевальном коллективе были одни девочки, и мама это знала. А в остальное время я была дома и занималась домашними делами. Поэтому я никак не могла взять в толк, с какой это стати матери взбрело в голову вести со мной подобные беседы, тем более что это было первый раз в жизни, когда она вообще со мной о чём-то заговорила. Но она продолжала.
– В своей жизни мне пришлось сделать много абортов. Но я замужем, а это другое дело! А если ты в таком раннем возрасте сделаешь аборт, то это может испортить тебе будущее. Многие девушки в твоём возрасте ведут себя безответственно, а потом всю жизнь маются. Ты же не хочешь в ближайшее время стать матерью?
Я продолжала хлопать глазами, не понимая, к чему идёт речь.
– Надеюсь, что после нашего с тобой разговора ты всё обдумаешь и будешь вести себя так, чтобы не доводить дело до абортов.
– Я поняла, – пересохшими от волнения губами, пролепетала я исключительно для того, чтобы хоть что-то ответить, иначе бы этот непонятный разговор продолжался ещё долго.
А когда я вышла из кухни, мне было не по себе. Неужели моя родная мать настолько меня не знает? Ведь я каждый день доказываю своим родителям, что для меня главное – учёба! А цель – хороший аттестат, с которым я могла бы поступить в любой ВУЗ страны! С чего же они взяли, что у меня на уме секс? Да я в те года вообще об этом не думала. Я, как и большинство советских девушек, мечтала сберечь себя для одного единственного парня, который станет моим мужем. И мне казалось, что моё поведение и весь образ жизни свидетельствовали об этом. Я даже любовных романов никогда не читала, полагая, что это чушь, на которую у меня совершенно нет времени. И потому я собиралась как можно быстрее выбросить из головы этот разговор с матерью, но она не давала мне это сделать, периодически напоминая о нём.
– Светка, ты помнишь, как мы с тобой говорили о вреде абортов? – при случае повторяла она, укоризненно глядя на меня.
– Помню, – опустив глаза, отвечала я, пытаясь под любым предлогом в ту же секунду убежать подальше, чтобы не выслушивать очередную проповедь.
– Очень надеюсь, что ты не забыла всё то, что я тебе уже сказала, – поджав губы, добавляла мать, вероятно, чтобы лишний раз уколоть меня.
Но один плюс от этих неприятных бесед всё же был. Благодаря этим разговорам я стала лучше узнавать свою мать.
В детстве я боялась, что она вот-вот умрёт. А всё потому, что достаточно часто она ложилась в больницу. Два-три дня, не более. Но после возвращения она весь день лежала на кровати как немощная и слабым голосом просила пить. И я спрашивала у папы:
– Что с мамой?
И он отвечал:
– Мама болеет.
И я сочувственно смотрела на маму и подбегала к ней по первому зову, стараясь выполнить любую просьбу. И когда я спрашивала её:
– Мама, что с тобой?
Она отвечала точно так же, как и папа:
– Я заболела.
И поскольку такое случалось несколько раз в год, и родители ничего не объясняли, то я была уверена, что мама тяжело больна, и родители не говорят мне правды, чтобы не расстраивать. И поскольку выздоровления не наступало, так как каждый раз, возвращаясь из больницы, мама весь день лежала в кровати, будучи не в состоянии даже встать, я была уверена, что недуг, подкосивший её, смертельный.
В детстве ребята любят загадывать желания по каждому поводу. Увидели машину, в номере которой сумма пар цифр одинаковая – нужно загадать желание. Подвернулся подол юбки, – расправляя, нужно загадать желание. Произнёс слово одновременно с кем-то – нужно загадывать желание. И я не знаю, кто из моих друзей какое желание загадывал, но я всегда повторяла одно: лишь бы мама не умерла! Я ужасно этого боялась, потому что когда она в очередной раз ложилась в больницу, я мысленно готовилась к худшему. Но разговор об абортах всё расставил по своим местам. Причина её частых недугов оказалась настолько прозаичной, что пьедестал, на который я, как и любой другой ребёнок, возвела свою мать, стал неумолимо снижать свой уровень. Непогрешимая репутация матери стала таять прямо на глазах.
Неужели родителям было сложно купить пачку презервативов в аптеке? Они тогда уже продавались, я сама это видела. Или они полагали, что аборт – единственный способ предохранения от появления на свет нежелательных детей? Как мать могла с такой лёгкостью прерывать свои многочисленные беременности, не испытывая ни малейших угрызений совести? Ведь это неправильно! В моём понимании аборт – это крайняя мера, на которую нужно идти, когда жизнь реально загнала тебя в угол, и это – то малое зло, которое способно предотвратить ещё большие беды. Но в понимании моей матери, сделать аборт было всё равно, что посетить парикмахера. Навёл лоск и пошёл дальше. Причём даже парикмахера она посещала реже, чем делала аборт.
И почему она решила, что я должна думать точно так же, как она? Может быть, поэтому она и завела тогда разговор об абортах, потому что не воспринимала эту процедуру как трагедию, а относилась к ней лишь как к косметической операции?
После такого открытия мне даже подумалось о том, что рождение Лины было лотереей. Ведь если бы тогда, забеременев в очередной раз, мать сделала аборт, предпочтя обзавестись ребёнком позже, то Лины не было бы на свете. Потом родился бы другой ребёнок, а, может, и не родился бы вовсе. Что было бы? Изменилась ли от этого моя жизнь? Ведь я бы родилась всё равно, так как была у своих родителей первенцем. А что было бы дальше? Сложно сказать. Возможно, ничего бы не изменилось. Родители точно так же любили бы другого ребёнка, если бы он был, и точно так же пренебрежительно относились ко мне, уж не знаю почему. Да, думаю, вряд ли что-нибудь изменилось.
Показательным в этом отношении являлся и тот факт, как родители обращались ко мне и как к своей младшей дочери. Меня они всегда называли Светкой. Даже не Светой, а именно Светкой, как дворовую девку. А к сестре обращались не иначе как Линулинка-золотулинка. Причём не только мама называла сестру именно так, но и отец. Когда я слышала это от него, то это так резало слух, словно кто-то проводил ножом по стеклу, потому что я никогда не слышала от папы никаких ласковых слов, пусть даже обращённых не ко мне, а к другому человеку. К маме, например. Но Линулинка всегда была золотулинкой.
Родители никогда не говорили мне, что любят меня, или хотя бы волнуются обо мне. У меня всегда было ощущение, что я только мешаю им. Почему? Зачем они тогда вообще родили меня? Их же никто не заставлял это делать!
Признаться, долгое время я винила свою сестру в том, что всё родительское внимание и забота доставались ей, а не мне, их старшему ребёнку. К тому же я считала, что гораздо больше достойна их любви, чем их безалаберная и ленивая младшая дочь. Но потом я поняла. Лина ни в чём не виновата. Разве она выбирала время, когда ей следует родиться, или, положим, пыталась свалить на меня свои проделки и потом спрятаться за мою спину? Нет. По крайней мере, в начале. Всё это делали за неё родители. Они заставляли меня делать за сестру уроки, не позволяя ей самой работать мозгами и руками. Они сами вкладывали в её слова тот смысл, какой им был удобен, чтобы обвинить меня в мнимых грехах. Это они, родители, распределяли свои деньги и своё внимание по принципу: ей всё, а мне ничего, прикрываясь заботой о младшей дочери своё нежелание заниматься мной. Это они избаловали Лину до такой степени, что она действительно поверила в свою исключительность и вседозволенность, которые боком обернулись самим родителям в их старости.
Да, в итоге каждый получает то, что выбирает.
Я уже упоминала о том, наш класс часто ездил на различные экскурсии. Другим детям родители всегда давали что-нибудь с собой. Многим давали даже карманные деньги. Но это был не мой случай. Когда мы куда-то ехали, я всегда чувствовала себя как Рон Уизли во время своей первой поездки в Хогвартс, когда сидящий рядом с ним Гарри Поттер мог позволить себе купить любые конфеты, а бедняге Рону приходилось довольствоваться парой бутербродов, которые мама дала ему с собой. Только вот у меня часто и пары бутербродов не было.
По счастью, отношения в классе у нас были очень хорошие, и со мной всегда делились. Правда, чувство неловкости от этого почему-то не исчезало.
А когда после какого-нибудь спектакля мы возвращались домой очень поздно, то родители абсолютно всех моих одноклассников приходили к школе, чтобы встретить своих детей. За исключением, конечно же, моих. Даже когда мы приезжали в двенадцать часов ночи.
Родители других детей спрашивали меня:
– Света, а почему твоих родителей здесь нет? Они куда-то уехали?
– Нет, не уехали, – вздыхая, отвечала я и добавляла. – Я не знаю, почему они не пришли.