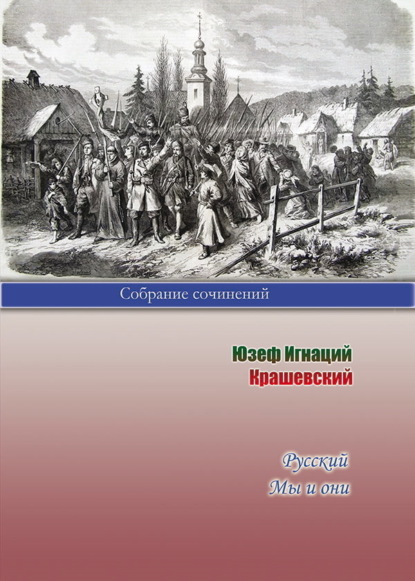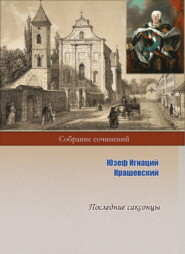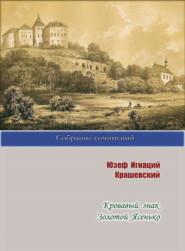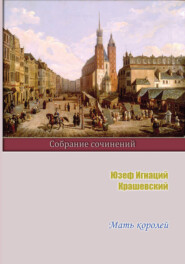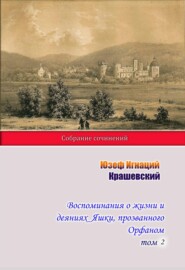По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский. Мы и они
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русский. Мы и они
Юзеф Игнаций Крашевский
Романы знаменитого польского писателя Юзефа Крашевского – «Русский» и «Мы и они» относятся к циклу романов о польском восстании 1863 года («Дитя Старого города», «Шпион», «Красная пара», «Русский», «Мы и они», «Еврей», «На востоке», «Гибриды»).
Герой первого – Святослав Наумов, наполовину поляк, провёл детство в Польше; позже они с матерью переезжают в Петербург, где Наумов получает образование и поступает на службу в царскую армию. Считает себя русским. Когда в Польше происходят волнения, он получает приказ отправиться в Варшаву, чтобы её успокоить. Но в Польше на него нападает ностальгия…
Второй роман рассказывает о самоотверженной любви шпионки к польскому революционеру. Когда он попал в руки царской армии, она, используя свои связи с русскими чиновниками, пытается добиться его освобождения или отправиться с ним в Сибирь…
Юзеф Игнаций Крашевский
Русский. Мы и они
Перевод с польского – Бобров А. С.
© Бобров А.С. 2024
Русский
картинка из 1864 года, нарисованная с натуры
MOSKAL
OBRAZEK Z R. 1864
narysowany z natury
All is true
В те счастливые времена безразличия, когда недавно созданное великодушным Александром I Королевство Польское, к которому прибавили потихоньку нашёптанную надежду на присоединение захваченных провинций, занималось народным войском, польскими орлами и вызовом из могилы воскресшей родиной, когда наши учёные всерьёз говорили о примирении с Россией и о том, чтобы разделить с ней судьбы, прибыл с гвардией в Варшаву молодой офицерик, довольно красивый блондин, элегантной внешности, по имени Александр Петрович Наумов.
Наумов по чистой случайности попал в гвардию к аристократам и дворянам. Он был сиротой, сыном какого-то мелкого должностного лица при Эрмитаже. Ещё ребёнком он слонялся по приёмным, где члены царской фамилии часто его видели. Парень был смышлённый и очень милый, некая княгиня очень ему симпатизировала; в результате её протекции, вовсе не спрашивая о призвании, ребёнка, как только он немного подрос, определили в одну из войсковых частей.
Когда кого-нибудь сделают той машиной, которая называется солдатом, – в России считается самой большой милостью. Саша вырос как стрела, к счастью, не подурнел, напротив, похорошел, отличался среди сверстников, если не чрезвычайными талантами, то большим добродушием, мягкостью и послушанием старших.
В стране, в которой смирение пробивает не только небеса, но стены дворцов, смышлённый, красивый, услужливый и вовсе не гордый Наумов должен был сделать прекрасную карьеру Таким образом, он дошёл до того, что вместо линейного полка, был помещён в гвардию. Так как ему было тяжело в этой дорогостоящей броне содержать себя на одну пенсию, назначили ему в дорогу милость, дополнительное пособие; а то, что Наумов был образцовым солдатом и совсем не боялись, что в Польше он заразится свободомыслием, то его определили в Варшаву.
Мы добавим, что, кроме этих качеств Саши, о которых мы упомянули, у него было доброе сердце, честная натура, а столица, в которой он провёл детство, легкомысленное общество, которым был окружён, ничуть его не испортили. Иногда бедность бывает тормозом для плохого.
Наумов должен был быть, так сказать, положительным, потому что было не на что отпустить поводья жизни. К счастью, сердце также имело в нём больше сил, чем пылкости. Сирота больше тосковал по семье, которой у него не было, по привязанности, которой не вкусил, чем по лёгким удовольствиям жизни, на всю пустоту которых насмотрелся. Будучи не в состоянии и не желая разделить безумие своих товарищей, он больше чувствовал к ним отвращение, чем склонность. Было в нём что-то простодушно-поэтичное; сам он совсем не был поэтом, он очень любил поэзию и целыми часами готов был ею упиваться. Это был не настолько самостоятельный ум, чтобы что-то сам мог создавать, но открытый, дабы принять всевозможную красоту.
Среди соратников Наумов считался обычным человеком, не имел достаточно отваги, чтобы снизойти до малейшего остроумия, молчал, когда был счастлив, молчал, когда гневался, молчал, когда был весел, только одно чувство могло открыть его уста, но, постоянно о нём мечтая, ещё с ним не встретился. Наумов, хотя служил в гвардии, французского языка почти не знал, немецкий немногим лучше, впрочем, никакого другого языка не знал. Пел только русские песни чистым и непоставленным голосом, горячо любил музыку, но столько её знал, сколько ему Господь Бог влил в душу, а солдатские хоры с ней освоились. При этом он во всём был очень ладный мужчина, высокий, плечистый, светлый блондин, белый, румяный, с голубыми, полными грусти, глазами, с лицом, почти всегда мягко улыбающимся.
Переселение из Петербурга в Варшаву помогло Саше узнать совсем новый мир. Он недоумевал, видя, как при очень строгом правлении великого князя Константина, при самых сильных намерениях укротить и подчинить этот несчастный народ, из него брызгала врождённая свобода, о какой в столице царей представления иметь не могли.
В фигуре, движениях, словах даже самого обычного гмина был виден народ, который испокон веков привык к свободе, который чувствовал себя человеком и даже в кандалах рабом быть не умел. Его также чрезвычайно поразило обаяние польских женщин, которых вековая цивилизация подняла высоко, облагородила и придала им физиономию, которая светилась душой.
Самые красивые русские дамы – это живые статуи, иногда очень изящные, но всегда источающие только чувственное легкомыслие. Молодой человек очень удивлялся, что в простых служанках, которых встречал в городе, он находил больше скромного благородного обаяния, нежели в известных аристократических красавицах, украшающих царские салоны.
Хотя у нас всегда было негативное отношение к русским, непреднамеренно чувствуя в них инструменты идеи совсем противной нашей народной миссии, всё-таки при правлении Александра мы были ближе, чем когда-либо, к примирению. Не все польские дома закрывались перед русскими, принимали их в обществе и мы имели много примеров поляков, женатых на русских девушках, полек, вышедших замуж за русских юношей.
Наумов как раз попал на эти минуты безразличия, против которого только малая горстка более горячих потихоньку протестовала. Служба в гвардии при в. князе Константине была так рассчитана, что солдаты и офицеры не имели времени ни на что, за исключением своего солдатского обучения. Мучили приготовлением к муштре, бесконечными манёврами, охраной, а время было так рассчитано, чтобы его на размышление, на внутреннюю работу совсем не оставалось. Не было это делом случая, но, как мы сказали, преднамеренным расчётом; ни в должностном лице человека, ни в солдате самостоятельного, мыслящего существа видеть не хотели.
Великий князь терпел всё, кроме книжек и малейшего симптома того, что в то время называлось вольнодумством. Боялись заговоров, карбонаризма, предчувствовали эти конвульсии, которые должны были породить бесчеловечное угнетение. Как солдаты, которых в то время так мучили на смотрах, что у них часто кровь носом и ртом шла, угнетаемый народ также собирался взорваться кровью. Не могли справиться иначе с ожидаемым возмущением, как умножая и увеличивая их причины, то есть тиранический гнёт. В войске очень бдительно следили за самыми маленькими симптомами самостоятельности, называлось это духом, потому что в действительности происходило от духа.
Наумов, большой педант, парень мягкий и покорный, отлично обученный офицер, был в большом фаворе у князя, который считал его простым добродушным созданием. Почти не было дня, чтобы он не покрутил его за ухо, что у Константина было доказательством большой милости.
– Смотри, Куруто, – говорил он часто своему фавориту, – вы мне всегда хвалите этих ваших худых поляков, есть между ними ладные ребята, нечего сказать, но покажи мне хоть одного такого широкоплечего дуба, не холопа, как Наумов. Этот создан солдатом, а притом, хоть пороху не боится, его не изобретёт. Для солдата это преимущество.
Наумов, лучше познакомившись с Варшавой, как множество других русских в то время, влюбился в неё и в Польшу. Не знаю, каким случаем, он где-то познакомился с одной очень красивой девушкой, дочерью мелкого урядника из комиссии Казначейства. Её мать, когда отец давно умер, жила на небольшую пенсию за выслугу лет, сын служил в каком-то бюро, был женат и жил отдельно. Мать с дочкой занимали очень скромную квартирку на Тамке, в которую Наумов сумел напросится, втиснуться и вымолить, чтобы ему разрешили бывать. Эта красивая девушка, Мисия, живая, проворная и смелая брюнетка поначалу шутила над этим белым русским, он немного её смешил, немного забавлял, иногда раздражал, она постоянно с ним ссорилась, но кое-как его сносила.
Девушка была воспитана очень старательно, а природа одарила её богато, благородным сердцем, живым и открытым умом. Мисия, хотя не была абсолютной красавицей, имела бесконечно много жизни и обаяния, вся её фигура была полна энергии и, несмотря на это, была удивительно скромна и женственна. Познакомившись с Наумовым, вовсе не делая в отношении него проектов, она решила его, как говорила, цивилизовать и сделать из него человека. Сразу влюблённый Саша поддался очень охотно всему, что с ним хотели сделать. Мать смотрела на это не без некоторого опасения за свою любимую дочку, но так ей верила и так высоко ценила её разум и сердце, так была ею завоёвана, что ни в чём сопротивляться ей не могла.
Поведение Миси с этим молодым русским, который, как она говорила, прицепился к ней, было чрезвычайно удачным. Поначалу она вовсе не хотела видеть в нём ни любовника, ни будущего претендента на её руку. Она обходилась с ним почти так же, как со взятой на воспитание собачкой, которую отучает от неприличия, а учит служить, приносить и охранять. Эта учёба была не столько салонных обычаев, потому что Наумов очень прекрасно умел держаться в обществе, сколько новых для него понятий и представлений. Наполовину шуткой, наполовину всерьёз его сначала вынуждали учить польский язык, вместе с ним пришли польские идеи. Мисия не меньше его муштровала, чем великий князь Константин своих солдат; хотела сделать из него поляка, и это преображение с помощью чёрных глаз отлично ей удалось. Они постоянно друг с другом ссорились, то есть Мисия его ругала за всё, он всё принимал с добродушной, сердечной улыбкой. Только раз, когда машинально вырвалось какое-то проклятие на всё племя и русский народ, Саша или пан Олес, как его там называли, встал, покрасневший, и голосом, в котором чувствовалось глубокое возмущение, решительно провозгласил:
– Не проклинай, пани, народа, ты знаешь его только по тем изгнанникам, которых к вам бросают; у народа есть сердце, у народа есть будущее; в чём же его вина, что от вековой неволи упал? Пусть над ним засветит солнце свободы, пусть на него упадёт роса добродетельной науки, пусть его раскуют и развяжут, и увидишь, пани, что он может быть народом великим и достойным любви.
Мисия, смотря на него, побледнела, задумалась и подала ему руку, она смогла оценить в русском эту честную любовь к родине; однако, несмотря на это, она ответила ему полушутя:
– Если бы даже вас расковали, вы будете ещё долго носить на шее следы этого ярма, с которым ходили веками.
Наумов вздохнул и на этом беседа закончилась. Отношения с ним Мисии, в которых никогда о любви даже и речи не было, протянулись очень долго; Саша досконально выучил польский язык, а что больше, его понятия полностью изменились. Рождённый с добрыми наклонностями, он получил пользу от этого нового воспитания женщиной великого сердца и ума. Привязанность его к ней была какой-то спокойной идеальной любовью, тем большей силы, что внешне она выглядела только сердечной братской связью. Мисия также привязалась к ученику, хотя ему этого вовсе не показывала, но позднее ссорилась уже только для формы, а когда Наумов случаем в течение нескольких дней их не навещал, Михалина была грустная и беспокойная.
Мать, несмотря на её веру в дочь, эти отношения, которые легко принимать не могла, очень беспокоили. Как очень ревностная католичка, как особа рассудительная, хорошо знающая, что две веры в браке всегда, рано или поздно, являются причиной разлада, если один из партнёров не сможет преобразить другого, предвидела грустные последствия этого романа, но когда однажды упомянала об этом в скобках дочке, Мисия ей решительно отвечала:
– Если бы я собиралась за него выходить, то сначала уж переделала бы его в католика.
Это продолжалось полтора года, мать потихоньку плакала и терзалась, заболела, в конце концов, и умерла, но к ложу умирающей пришёл заплаканный Наумов и старушка их обоих благословила.
Через несколько месяцев они стояли у алтаря. Невероятно удивлялись и этому бедному гвардейцу, который мог ожидать более прекрасной партии в России, и бедной девушке, что могла пойти за русского. Наумову нужно было преодолеть неслыханные трудности, пока не получил разрешение от великого князя. Вскоре после этого он вышел в отставку и ему дали очень хорошее место в комиссариате, оставив его в Варшаве.
Ещё перед революцией 1831 года какие-то интриги, с которыми в русских бюро не трудно, привели к внезапному переезду супругов даже в Одессу. Михалина и её муж, вполне уже привыкшие к обычаям приёмной родины, с крайней жалостью покинули Варшаву. Михалина гневалась, проклинала, плакала – ничего не помогло, нужно было ехать с мужем в это изгнание на другой конец света.
К счастью, Одесса в то время, как весь тот край за ней, была гораздо более польской, чем сегодня, можно сказать даже, полностью польской. Отношение её с Подольем и Украиной, огромная торговля зерном, отличные морские ванны приводили туда множество обывателей из Украины и Подолья. Более богатые имели там свои дома и магазины, а в околице – значительную собственность и колонии. Россия не имела ещё времени и мужества взяться за искоренение народных чувств; она инстинктивно посягала на это, но не смела признаться в системе, потому что в эту эпоху было больше уважения к главным народным правам, больше стыда и страха перед мнением.
Русские притворялись ещё очень либеральными, толерантными, друзьями всяких народностей, в окрестностях Одессы закладывали новую Сербию, а поляки в этом городе вовсе не казались им ещё вредными. Несомненно, ждали, чтобы обещания Екатерины, которые были повторены в её манифестах по разделу страны, подтверждающие уважение религии и народности, немного состарились.
Даже при Николае, когда уже ни Европы, ни европейского мнения не боялись, искоренение народных чувств шло очень тихо и осторожно, пока незабвенный Бибиков не осмелился посягнуть на права, язык и религию. Он заверил Николая, что всё это может вырвать без сопротивления, он добился от тогдашних маршалов шляхты подписание унизительной петиции об уравнении этих провинций в законах и судебной власти с Россией. С этой поры быстро пошла ортопедическая операция, в результате которой все провинции постепенно должны были стать русскими.
Семейство Наумовых революция застала в Одессе. На её хоругвиях стояла надпись: «За нашу и вашу свободу». Поэтому Наумов мог смотреть на неё молча, когда жена его вовсе не скрывала горячее к ней сострадание. Спустя пару лет, когда два первых ребёнка у них умерли, родился сын, которого Михалина сумела как-то в секрете крестить по-католически и дала ему имя Станислава. А так, как дети, которых она очень хотела, не выжили, она предложила маленького Стася до семи лет одеть в рясу св. Франциска, как то у нас бывало в обычаи. Это, может, вызвало бы какой-нибудь донос, слежку и преследование, но честный Саша, беспокойный из-за какой-то муки, с которой его обманули поставщики, подцепил лихорадку и умер. Бедная вдова, схоронив его останки на берегах Чёрного моря, сама тут же решила вернуться в Варшаву. Друзья мужа легко сделали для неё довольно значительную пенсию по службе, а в дополнение что-то ещё на воспитание ребёнка до его совершеннолетия.
Пани Наумова терпеть не могла Одессы и, продав как можно скорей всё, что только имела, поспешила в прежнюю свою квартиру на Тамке. Она заранее писала брату, чтобы эту квартиру обязательно нанял для неё; там протекли наиболее счастливые годы её жизни, хотела туда по ним плакать и тосковать, по потерянному счастью.
В трауре, который никогда уже снять не собиралась, с маленьким Стасем на руках она отправилась в то жилище, которое ей теперь показалось странно разрушенным, грустным и бедным. Она вся отдалась этому ребёнку, был это внешностью живой образ отца, но с душой несравненно более горячей, материнской. Имел доброту и мягкость Саши, но с энергией и свободным духом матери. Единственный ребёнок, изнеженный, выросший в поцелуях, согретый чрезмерной любовью, он вымахал, как вырастают те дети, колыбельку которых окружает сильная привязанность.
Читатель уже, быть может, предчувствует в этом мальчике героя романа; мы должны были этой генеалогией объяснить феномен русского-поляка, которого не создало наше воображение, потому что не один он сражался в рядах защитников Польши. Было их много, понимающих, что наше дело не отказалось от старой надписи на своей хоругви: «За нашу и вашу свободу». Русское правительство только через год после первых вспышек в Варшаве сделало эту искусственную агитацию, якобы патриотическую, которой смогло сбаламутить незрелый народ.
Его испугали те симпатии, которые начинали к нам проявляться, через уста оплаченных журналистов он смог внушить, что марание польской кровью и уничтожение целого народа было для России потребностью, необходимостью.
Шум наёмной прессы заглушает сегодня всякие проявления возмущения, которые даже и в России вызывают используемые против нас средства, но когда весь этот шум утихнет, те, что сегодня достойны названия человека, должны будут стыдиться за собственный народ.
Юзеф Игнаций Крашевский
Романы знаменитого польского писателя Юзефа Крашевского – «Русский» и «Мы и они» относятся к циклу романов о польском восстании 1863 года («Дитя Старого города», «Шпион», «Красная пара», «Русский», «Мы и они», «Еврей», «На востоке», «Гибриды»).
Герой первого – Святослав Наумов, наполовину поляк, провёл детство в Польше; позже они с матерью переезжают в Петербург, где Наумов получает образование и поступает на службу в царскую армию. Считает себя русским. Когда в Польше происходят волнения, он получает приказ отправиться в Варшаву, чтобы её успокоить. Но в Польше на него нападает ностальгия…
Второй роман рассказывает о самоотверженной любви шпионки к польскому революционеру. Когда он попал в руки царской армии, она, используя свои связи с русскими чиновниками, пытается добиться его освобождения или отправиться с ним в Сибирь…
Юзеф Игнаций Крашевский
Русский. Мы и они
Перевод с польского – Бобров А. С.
© Бобров А.С. 2024
Русский
картинка из 1864 года, нарисованная с натуры
MOSKAL
OBRAZEK Z R. 1864
narysowany z natury
All is true
В те счастливые времена безразличия, когда недавно созданное великодушным Александром I Королевство Польское, к которому прибавили потихоньку нашёптанную надежду на присоединение захваченных провинций, занималось народным войском, польскими орлами и вызовом из могилы воскресшей родиной, когда наши учёные всерьёз говорили о примирении с Россией и о том, чтобы разделить с ней судьбы, прибыл с гвардией в Варшаву молодой офицерик, довольно красивый блондин, элегантной внешности, по имени Александр Петрович Наумов.
Наумов по чистой случайности попал в гвардию к аристократам и дворянам. Он был сиротой, сыном какого-то мелкого должностного лица при Эрмитаже. Ещё ребёнком он слонялся по приёмным, где члены царской фамилии часто его видели. Парень был смышлённый и очень милый, некая княгиня очень ему симпатизировала; в результате её протекции, вовсе не спрашивая о призвании, ребёнка, как только он немного подрос, определили в одну из войсковых частей.
Когда кого-нибудь сделают той машиной, которая называется солдатом, – в России считается самой большой милостью. Саша вырос как стрела, к счастью, не подурнел, напротив, похорошел, отличался среди сверстников, если не чрезвычайными талантами, то большим добродушием, мягкостью и послушанием старших.
В стране, в которой смирение пробивает не только небеса, но стены дворцов, смышлённый, красивый, услужливый и вовсе не гордый Наумов должен был сделать прекрасную карьеру Таким образом, он дошёл до того, что вместо линейного полка, был помещён в гвардию. Так как ему было тяжело в этой дорогостоящей броне содержать себя на одну пенсию, назначили ему в дорогу милость, дополнительное пособие; а то, что Наумов был образцовым солдатом и совсем не боялись, что в Польше он заразится свободомыслием, то его определили в Варшаву.
Мы добавим, что, кроме этих качеств Саши, о которых мы упомянули, у него было доброе сердце, честная натура, а столица, в которой он провёл детство, легкомысленное общество, которым был окружён, ничуть его не испортили. Иногда бедность бывает тормозом для плохого.
Наумов должен был быть, так сказать, положительным, потому что было не на что отпустить поводья жизни. К счастью, сердце также имело в нём больше сил, чем пылкости. Сирота больше тосковал по семье, которой у него не было, по привязанности, которой не вкусил, чем по лёгким удовольствиям жизни, на всю пустоту которых насмотрелся. Будучи не в состоянии и не желая разделить безумие своих товарищей, он больше чувствовал к ним отвращение, чем склонность. Было в нём что-то простодушно-поэтичное; сам он совсем не был поэтом, он очень любил поэзию и целыми часами готов был ею упиваться. Это был не настолько самостоятельный ум, чтобы что-то сам мог создавать, но открытый, дабы принять всевозможную красоту.
Среди соратников Наумов считался обычным человеком, не имел достаточно отваги, чтобы снизойти до малейшего остроумия, молчал, когда был счастлив, молчал, когда гневался, молчал, когда был весел, только одно чувство могло открыть его уста, но, постоянно о нём мечтая, ещё с ним не встретился. Наумов, хотя служил в гвардии, французского языка почти не знал, немецкий немногим лучше, впрочем, никакого другого языка не знал. Пел только русские песни чистым и непоставленным голосом, горячо любил музыку, но столько её знал, сколько ему Господь Бог влил в душу, а солдатские хоры с ней освоились. При этом он во всём был очень ладный мужчина, высокий, плечистый, светлый блондин, белый, румяный, с голубыми, полными грусти, глазами, с лицом, почти всегда мягко улыбающимся.
Переселение из Петербурга в Варшаву помогло Саше узнать совсем новый мир. Он недоумевал, видя, как при очень строгом правлении великого князя Константина, при самых сильных намерениях укротить и подчинить этот несчастный народ, из него брызгала врождённая свобода, о какой в столице царей представления иметь не могли.
В фигуре, движениях, словах даже самого обычного гмина был виден народ, который испокон веков привык к свободе, который чувствовал себя человеком и даже в кандалах рабом быть не умел. Его также чрезвычайно поразило обаяние польских женщин, которых вековая цивилизация подняла высоко, облагородила и придала им физиономию, которая светилась душой.
Самые красивые русские дамы – это живые статуи, иногда очень изящные, но всегда источающие только чувственное легкомыслие. Молодой человек очень удивлялся, что в простых служанках, которых встречал в городе, он находил больше скромного благородного обаяния, нежели в известных аристократических красавицах, украшающих царские салоны.
Хотя у нас всегда было негативное отношение к русским, непреднамеренно чувствуя в них инструменты идеи совсем противной нашей народной миссии, всё-таки при правлении Александра мы были ближе, чем когда-либо, к примирению. Не все польские дома закрывались перед русскими, принимали их в обществе и мы имели много примеров поляков, женатых на русских девушках, полек, вышедших замуж за русских юношей.
Наумов как раз попал на эти минуты безразличия, против которого только малая горстка более горячих потихоньку протестовала. Служба в гвардии при в. князе Константине была так рассчитана, что солдаты и офицеры не имели времени ни на что, за исключением своего солдатского обучения. Мучили приготовлением к муштре, бесконечными манёврами, охраной, а время было так рассчитано, чтобы его на размышление, на внутреннюю работу совсем не оставалось. Не было это делом случая, но, как мы сказали, преднамеренным расчётом; ни в должностном лице человека, ни в солдате самостоятельного, мыслящего существа видеть не хотели.
Великий князь терпел всё, кроме книжек и малейшего симптома того, что в то время называлось вольнодумством. Боялись заговоров, карбонаризма, предчувствовали эти конвульсии, которые должны были породить бесчеловечное угнетение. Как солдаты, которых в то время так мучили на смотрах, что у них часто кровь носом и ртом шла, угнетаемый народ также собирался взорваться кровью. Не могли справиться иначе с ожидаемым возмущением, как умножая и увеличивая их причины, то есть тиранический гнёт. В войске очень бдительно следили за самыми маленькими симптомами самостоятельности, называлось это духом, потому что в действительности происходило от духа.
Наумов, большой педант, парень мягкий и покорный, отлично обученный офицер, был в большом фаворе у князя, который считал его простым добродушным созданием. Почти не было дня, чтобы он не покрутил его за ухо, что у Константина было доказательством большой милости.
– Смотри, Куруто, – говорил он часто своему фавориту, – вы мне всегда хвалите этих ваших худых поляков, есть между ними ладные ребята, нечего сказать, но покажи мне хоть одного такого широкоплечего дуба, не холопа, как Наумов. Этот создан солдатом, а притом, хоть пороху не боится, его не изобретёт. Для солдата это преимущество.
Наумов, лучше познакомившись с Варшавой, как множество других русских в то время, влюбился в неё и в Польшу. Не знаю, каким случаем, он где-то познакомился с одной очень красивой девушкой, дочерью мелкого урядника из комиссии Казначейства. Её мать, когда отец давно умер, жила на небольшую пенсию за выслугу лет, сын служил в каком-то бюро, был женат и жил отдельно. Мать с дочкой занимали очень скромную квартирку на Тамке, в которую Наумов сумел напросится, втиснуться и вымолить, чтобы ему разрешили бывать. Эта красивая девушка, Мисия, живая, проворная и смелая брюнетка поначалу шутила над этим белым русским, он немного её смешил, немного забавлял, иногда раздражал, она постоянно с ним ссорилась, но кое-как его сносила.
Девушка была воспитана очень старательно, а природа одарила её богато, благородным сердцем, живым и открытым умом. Мисия, хотя не была абсолютной красавицей, имела бесконечно много жизни и обаяния, вся её фигура была полна энергии и, несмотря на это, была удивительно скромна и женственна. Познакомившись с Наумовым, вовсе не делая в отношении него проектов, она решила его, как говорила, цивилизовать и сделать из него человека. Сразу влюблённый Саша поддался очень охотно всему, что с ним хотели сделать. Мать смотрела на это не без некоторого опасения за свою любимую дочку, но так ей верила и так высоко ценила её разум и сердце, так была ею завоёвана, что ни в чём сопротивляться ей не могла.
Поведение Миси с этим молодым русским, который, как она говорила, прицепился к ней, было чрезвычайно удачным. Поначалу она вовсе не хотела видеть в нём ни любовника, ни будущего претендента на её руку. Она обходилась с ним почти так же, как со взятой на воспитание собачкой, которую отучает от неприличия, а учит служить, приносить и охранять. Эта учёба была не столько салонных обычаев, потому что Наумов очень прекрасно умел держаться в обществе, сколько новых для него понятий и представлений. Наполовину шуткой, наполовину всерьёз его сначала вынуждали учить польский язык, вместе с ним пришли польские идеи. Мисия не меньше его муштровала, чем великий князь Константин своих солдат; хотела сделать из него поляка, и это преображение с помощью чёрных глаз отлично ей удалось. Они постоянно друг с другом ссорились, то есть Мисия его ругала за всё, он всё принимал с добродушной, сердечной улыбкой. Только раз, когда машинально вырвалось какое-то проклятие на всё племя и русский народ, Саша или пан Олес, как его там называли, встал, покрасневший, и голосом, в котором чувствовалось глубокое возмущение, решительно провозгласил:
– Не проклинай, пани, народа, ты знаешь его только по тем изгнанникам, которых к вам бросают; у народа есть сердце, у народа есть будущее; в чём же его вина, что от вековой неволи упал? Пусть над ним засветит солнце свободы, пусть на него упадёт роса добродетельной науки, пусть его раскуют и развяжут, и увидишь, пани, что он может быть народом великим и достойным любви.
Мисия, смотря на него, побледнела, задумалась и подала ему руку, она смогла оценить в русском эту честную любовь к родине; однако, несмотря на это, она ответила ему полушутя:
– Если бы даже вас расковали, вы будете ещё долго носить на шее следы этого ярма, с которым ходили веками.
Наумов вздохнул и на этом беседа закончилась. Отношения с ним Мисии, в которых никогда о любви даже и речи не было, протянулись очень долго; Саша досконально выучил польский язык, а что больше, его понятия полностью изменились. Рождённый с добрыми наклонностями, он получил пользу от этого нового воспитания женщиной великого сердца и ума. Привязанность его к ней была какой-то спокойной идеальной любовью, тем большей силы, что внешне она выглядела только сердечной братской связью. Мисия также привязалась к ученику, хотя ему этого вовсе не показывала, но позднее ссорилась уже только для формы, а когда Наумов случаем в течение нескольких дней их не навещал, Михалина была грустная и беспокойная.
Мать, несмотря на её веру в дочь, эти отношения, которые легко принимать не могла, очень беспокоили. Как очень ревностная католичка, как особа рассудительная, хорошо знающая, что две веры в браке всегда, рано или поздно, являются причиной разлада, если один из партнёров не сможет преобразить другого, предвидела грустные последствия этого романа, но когда однажды упомянала об этом в скобках дочке, Мисия ей решительно отвечала:
– Если бы я собиралась за него выходить, то сначала уж переделала бы его в католика.
Это продолжалось полтора года, мать потихоньку плакала и терзалась, заболела, в конце концов, и умерла, но к ложу умирающей пришёл заплаканный Наумов и старушка их обоих благословила.
Через несколько месяцев они стояли у алтаря. Невероятно удивлялись и этому бедному гвардейцу, который мог ожидать более прекрасной партии в России, и бедной девушке, что могла пойти за русского. Наумову нужно было преодолеть неслыханные трудности, пока не получил разрешение от великого князя. Вскоре после этого он вышел в отставку и ему дали очень хорошее место в комиссариате, оставив его в Варшаве.
Ещё перед революцией 1831 года какие-то интриги, с которыми в русских бюро не трудно, привели к внезапному переезду супругов даже в Одессу. Михалина и её муж, вполне уже привыкшие к обычаям приёмной родины, с крайней жалостью покинули Варшаву. Михалина гневалась, проклинала, плакала – ничего не помогло, нужно было ехать с мужем в это изгнание на другой конец света.
К счастью, Одесса в то время, как весь тот край за ней, была гораздо более польской, чем сегодня, можно сказать даже, полностью польской. Отношение её с Подольем и Украиной, огромная торговля зерном, отличные морские ванны приводили туда множество обывателей из Украины и Подолья. Более богатые имели там свои дома и магазины, а в околице – значительную собственность и колонии. Россия не имела ещё времени и мужества взяться за искоренение народных чувств; она инстинктивно посягала на это, но не смела признаться в системе, потому что в эту эпоху было больше уважения к главным народным правам, больше стыда и страха перед мнением.
Русские притворялись ещё очень либеральными, толерантными, друзьями всяких народностей, в окрестностях Одессы закладывали новую Сербию, а поляки в этом городе вовсе не казались им ещё вредными. Несомненно, ждали, чтобы обещания Екатерины, которые были повторены в её манифестах по разделу страны, подтверждающие уважение религии и народности, немного состарились.
Даже при Николае, когда уже ни Европы, ни европейского мнения не боялись, искоренение народных чувств шло очень тихо и осторожно, пока незабвенный Бибиков не осмелился посягнуть на права, язык и религию. Он заверил Николая, что всё это может вырвать без сопротивления, он добился от тогдашних маршалов шляхты подписание унизительной петиции об уравнении этих провинций в законах и судебной власти с Россией. С этой поры быстро пошла ортопедическая операция, в результате которой все провинции постепенно должны были стать русскими.
Семейство Наумовых революция застала в Одессе. На её хоругвиях стояла надпись: «За нашу и вашу свободу». Поэтому Наумов мог смотреть на неё молча, когда жена его вовсе не скрывала горячее к ней сострадание. Спустя пару лет, когда два первых ребёнка у них умерли, родился сын, которого Михалина сумела как-то в секрете крестить по-католически и дала ему имя Станислава. А так, как дети, которых она очень хотела, не выжили, она предложила маленького Стася до семи лет одеть в рясу св. Франциска, как то у нас бывало в обычаи. Это, может, вызвало бы какой-нибудь донос, слежку и преследование, но честный Саша, беспокойный из-за какой-то муки, с которой его обманули поставщики, подцепил лихорадку и умер. Бедная вдова, схоронив его останки на берегах Чёрного моря, сама тут же решила вернуться в Варшаву. Друзья мужа легко сделали для неё довольно значительную пенсию по службе, а в дополнение что-то ещё на воспитание ребёнка до его совершеннолетия.
Пани Наумова терпеть не могла Одессы и, продав как можно скорей всё, что только имела, поспешила в прежнюю свою квартиру на Тамке. Она заранее писала брату, чтобы эту квартиру обязательно нанял для неё; там протекли наиболее счастливые годы её жизни, хотела туда по ним плакать и тосковать, по потерянному счастью.
В трауре, который никогда уже снять не собиралась, с маленьким Стасем на руках она отправилась в то жилище, которое ей теперь показалось странно разрушенным, грустным и бедным. Она вся отдалась этому ребёнку, был это внешностью живой образ отца, но с душой несравненно более горячей, материнской. Имел доброту и мягкость Саши, но с энергией и свободным духом матери. Единственный ребёнок, изнеженный, выросший в поцелуях, согретый чрезмерной любовью, он вымахал, как вырастают те дети, колыбельку которых окружает сильная привязанность.
Читатель уже, быть может, предчувствует в этом мальчике героя романа; мы должны были этой генеалогией объяснить феномен русского-поляка, которого не создало наше воображение, потому что не один он сражался в рядах защитников Польши. Было их много, понимающих, что наше дело не отказалось от старой надписи на своей хоругви: «За нашу и вашу свободу». Русское правительство только через год после первых вспышек в Варшаве сделало эту искусственную агитацию, якобы патриотическую, которой смогло сбаламутить незрелый народ.
Его испугали те симпатии, которые начинали к нам проявляться, через уста оплаченных журналистов он смог внушить, что марание польской кровью и уничтожение целого народа было для России потребностью, необходимостью.
Шум наёмной прессы заглушает сегодня всякие проявления возмущения, которые даже и в России вызывают используемые против нас средства, но когда весь этот шум утихнет, те, что сегодня достойны названия человека, должны будут стыдиться за собственный народ.