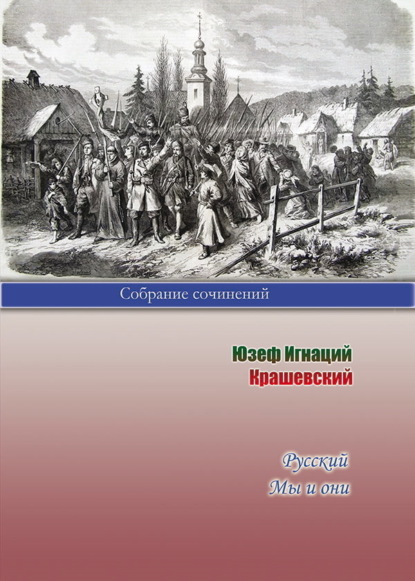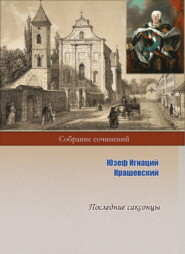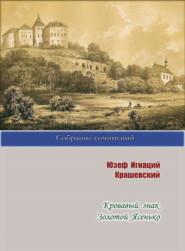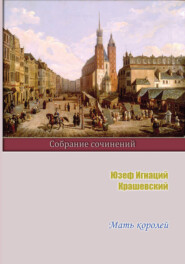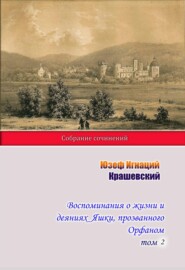По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский. Мы и они
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наумов вздохнул.
– Слушай-ка, может и ты влюбился в эту дочь генерала, от которой все офицеры вашего полка сходят с ума? Стыдись, если должен влюбиться, то не в русскую!
Святослав весь покраснел.
– О! Поймал я тебя, птичка, даже не отрицаешь; теперь понимаю, почему тебе никакой заговор не по вкусу, но пусть только красавица предаст, а сердце закровоточит, увидишь, какой из тебя будет горячий революционер. До свидания!
Сказав это, они расстались, обещая вскоре увидеться в Варшаве.
* * *
Утро следующего дня Наумов немного проспал, и ещё не оделся, когда услышал в прихожей шум. Дверь открылась и вошёл, как обычно, в шапке на голове и плаще, барон Книпхузен… барон, недавно присланный из кавалергардов в линейный полк пехоты, что означало, если не полную потерю привелегий, то, по крайней мере, какое-то лёгкое наказание за таинственную провинность и какую-то немилость.
Тихо говорили, что поводом к ней были некоторые отношения с женщиной, информация о которых дошла слишком далеко. Но как всю жизнь барона, так и этот случай покрывал туман, а он о себе не говорил никогда. Только его внешность и фигура выдавали Дон Жуана: бледный, высокий, очень красивый, полный панского достоинства и пренебрежения, имел презрительную мину, издевательскую, равнодушную, казалось, что жизнь и будущее не много его уже интересовали, тем больше заботился о настоящем, которое старался сделать для себя более приятным. Книпхузен был самым безумным гулякой в полку, а в обхождении с товарищами самым дерзким нахалом. Грустный, хмурый, безжалостно насмешливый, когда открывал уста, барон презирал людей, мир и всё, что они привыкли уважать. Был остроумен, видно, раньше много читал, знал немало, но теперь и книги его уже не занимали.
Был это человек поношенный и изнурённый, хотя молодой, скучающий и живущий только потому, что ленился петлю себе накинуть на шею.
Товарищи его боялись, старшие даже имели к нему некоторые соображения, но что всего удивительней, Наталия Алексеевна, полновластная пани сердец, подчинённых отцу, казалось, была с бароном более послушной, чем с другими.
Он один в неё не влюбился, был вежлив, холоден, немного насмешлив с ней, но очень осторожен. Быть может, именно поэтому ему то казалось, что навязывалась к нему, то вовсе его не замечала. Отзывалась о нём обычно очень плохо, но слишком часто говорила, выдавая себя, что он не был к ней совсем равнодушен, шпионила за ним, не терпела и всё же краснела всякий раз, как он входил в комнату. Барон открыто над ней шутил, хотя чрезвычайно вежливо и прилично.
Книпхузен с Наумовым не были в хороших отношениях, характеры их не согласовались и не были совсем противоположны, чтобы тянуться друг к другу. Поэтому молодой офицер удивился, видя его у себя так рано, а тем более, когда оказалось, что барон имел под плащом только халат.
– Ты пил уже чай? – спросил, зевая, гость.
– Нет, но самовар готов.
– Очень хорошо, и я с тобой выпью… но есть у тебя ром и лимон?
– Пошлю за ними, если хочешь.
– Пожалуйста, чистый чай – очень правоверный русский напиток, но для людей, нуждающихся в пробуждении, очень лёгкий… ром его делает сносным. Вижу, – добавил барон, – что ты удивляешься, что я поспешил к тебя с таким ранним визитом… но не забывай, что я стою в трёх шагах, что мне скучно и что вчера, возвращаясь поздно, видел почтовую кибитку перед твоей дверью. У тебя был гость? Что слышно? Гм?
Сказав это, он уселся, а скорее лёг, на канапе, запустил белую руку в чёрные пряди волос и с интересом поглядывал на хозяина.
– Мой бывший товарищ по корпусу по пути в Варшаву минуту побыл у меня, – сказал равнодушно Наумов.
– Из Петербурга?
– Да, из Петербурга.
– Что же в Питере? Великое возмущение? Великие страхи? Великая злоба или великий хаос?
– Мы об этом мало что говорили, – прервал Наумов, – больше о себе и товарищах.
Барон начал свистеть; а через мгновение сказал, крутя папиросу:
– Слушай, Святослав, ты за шпиона меня принимаешь что ли?
– Что же это, барон?
– Как же ты хочешь, чтобы я поверил, что вы вдвоём с Генриком (потому что я его знаю, и знаю, что был) на протяжении нескольких часов болтали незнамо о чём, когда над головами у вас гремит революция?
– Думайте что хотите, несомненно то, что о Петербурге мы говорили меньше всего!
– Тогда о Варшаве! – усмехнулся барон и сразу медленно добавил, смеясь: – Это только моя лень, что спрашиваю тебя, о чём вы там разговаривали. Немного потрудившись, я мог бы почти дословно угадать ваш юношеский разговор. Естественно, ваши головы горят, когда вы слышите о революции, сердца бьются, вы думаете уже мир от цепей расковать и построить Речь Посполитую!
Он улыбнулся и говорил неспешно дальше:
– Всем этим я уже переболел и пережил, как оспу. Вам, молодым, нужно всё-таки чем-то занять себя, но все эти красивые утопии – это груши на иве, мой дорогой Наумов; мир так идёт к лучшему, как раньше паломники ходили в Троицкую Лавру: два шага вперёд, один назад, а очень часто шаг вперёд, а назад два. Мир будет миром, зло злом, а сколько воробьёв поймают на мякину, – это чистая прибыль от всей работы.
– Я признаюсь вам, – прервал Наумов, – что я тоже не очень верю в утопию…
Барон долго смотрел ему в глаза и серьёзно сказал:
– В самом деле? Это меня удивляет, я имею право ни во что не верить, но ты – нет. Оказывается, что либо я в тебе ошибся, либо ты ещё не пробудился. Человек должен рано или поздно пройти через такие необходимые болезни, как оспа, скаралтина и коклюш. Ну, что он тебе говорил?
– Ты угадал, – отвечал, смеясь, Наумов, – он много мечтал…
– Поляк, ничего удивительного, это народ ещё гораздо младше нашего, если бы его было немного больше, я всерьёз боялся бы за Россию. Подумай только, Наумов, какими мы выглядим при них старыми и холодными! Поляк молится, плачет, любит, верит, даёт себя обманывать аж до самой смерти, возьми нашего брата хотя бы самой горячей натуры: в двадцать лет уже летает за цыганками, а в салоне считает приданое, а в церкви стоит как столб, но думает о вечерней игре или о ночной гулянке, слёзы ему только хрен выжимает, а из страха готов на все подлости, каких от него кто требует. Нашему правительству вовсе не нужно бояться революции, наш брат капли крови не прольёт за убеждения, потому что их нет. Мы – народ практичный и зайдём далеко…
Сказав это, Книпхузен налил себе обильно рома в чашку и так говорил далее:
– Через две или три недели будут у нас потихоньку шептать с симпатией о Польше, но это быстро прекратится. Генералам это на руку, потому что заработают на переходах и транслокациях, офицерам на руку, потому что погуляют, а что если ещё военная стопа, это и двойная пенсия.
Солдатам это нравится, потому что будут грабить, чиновники уже облизываются, потому что в мутной воде взятку брать лучше всего. Поэтому все возьмутся за поляков, сдерут с них кожу, нашумятся патриотизмом и баста.
После этой речи барон сделал небольшую паузу.
– Что до меня, – сказал он через мгновение, – я рад, что сменю квартиру, всё-таки Варшава – это город, не такая дыра, как тут, по крайней мере, найдётся добрый трактир и кандитерская, и человек от недостатка женских лиц не будет вынужден рекомендоваться либо к Наталье Алексеевне, либо к кухарке Прасковье.
Наумов нахмурился от этого воспоминания и сказал серьёзно:
– Прошу вас, не отзывайтесь так о Наталье Алексеевне.
– Меня радует, – сказал барон, смеясь, – что хоть в этом аспекте вы молоды, Наумов, – но не могу похвалить вашей первой любви, ведь это, несомненно, первая?
Наумов молчал, хмурый.
– Я ведь люблю вас, – добавил Книпхузен, – и поэтому посоветовал бы вам для первой любви выбрать хотя бы Прасковью, а не такое создание, которое родилось без сердца, как иногда телята рождаются без головы. Намучаешься, отчаишься, она над тобой посмеётся, только и всего.
– Почему вы думаете, что Наталья Алексеевна?..
Барон не дал ему докончить и холодно сказал:
– Наталья только одно существо может любить на свете – себя. Как же вы не видите, что ей нужно десять тысяч рублей дохода, а потом мужа, хотя бы и шестидесятилетнего; это всё едино…
– Знаете, барон, – с кислой улыбкой бросил Наумов, – это похоже на то, что вы в неё влюбились и мстите за холодность…