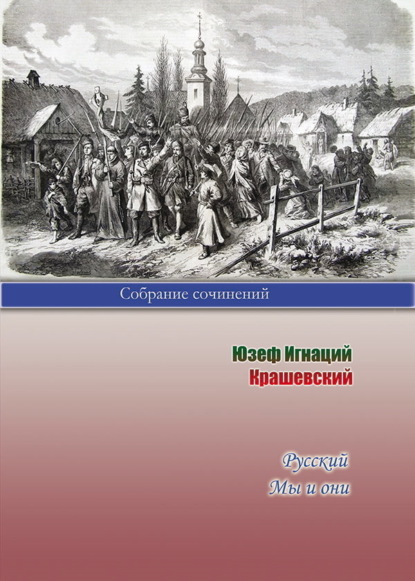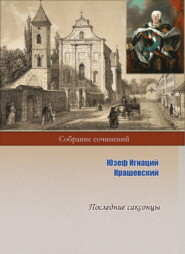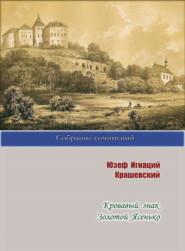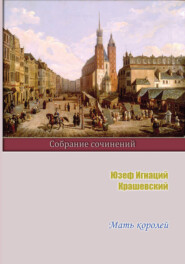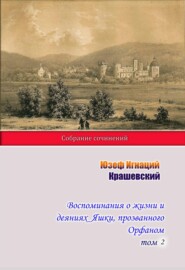По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский. Мы и они
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А значит, мы оба одновременно уходим, – шепнул Книпхузен, салютуя Наталье, – и не оборачивайтесь, – добавил он. – Вы знаете повесть об Орфее и Эвридике… кто не хочет потерять возлюбленной, не должен на неё оглядываться. Это, как и все мудрые сказки, символичная история. Слишком оглядываясь – теряют, притворившись равнодушным – раздражают и привязываются… Но ты не знаешь этих истин, очень ординарных; веришь, что любовь, как магнит, который сам собой притягивает. Ты забываешь, что самый сильный магнит не схватывает стружку и клоков… а как раз с ними ты имеешь дело…
От удачного сравнения барон сильно начал смеяться, и они вышли так из жилища генерала; в окне на них смотрело гневное личико Натальи.
– Не оглядывайся на Эвридику! – повторил Книпхузен. – И смело вперёд, рыцарь. Она сама пойдёт за тобой, а если обернёшься, она тебе фигу покажет.
Из того, что мы поведали о Наумове, читатель мог получить о нём некое представление; зная причины, легко догадаться о последствиях. Был это честный парень, немного испорченный влияниями, которые на него действовали, благороднейшие чувства и стремления в нём ещё спали, не чувствовал себя человеком, был офицером с маленькой предрасположенностью к повседневному либерализму, который его излишне не возвышал. Очень быть может, что переселение в полк немного задержало в нём более свободные стремления, какие он сначала показывал в корпусе, быть может, что несчастная любовь к женщине, в глазах которой московский свет казался идеалом, также на него влияли. Наумов выезжал, грустя по любимой и проклиная барона, которого оставлял с ней; почти ничего его теперь в Варшаве не тянуло.
Но по мере того, как он приближался к этой столице польского мученичества, которую покинул ещё ребёнком, воспоминания о которой утратил, которая казалась ему чужой, в нём пробуждались странные впечатления. Страна, околицы, люди, обычай, физиогномика, язык – всё как бы в утреннем сне напоминало виденное некогда, как бы памятки из лучшей жизни! Он чувствовал, что не приезжает сюда, а возвращается, понял наконец, что является родиной… когда сердце забилось сильней и слёзы брызнули из его глаз, а образ давно забытой матери на фоне этой страны выступил живой, выросший, великий!
Часто песнь пастуха, которой он не понимал, одним своим грустным звучанием доводила его почти до слёз… сердце билось всё быстрее, а туманное воспоминание детских лет выступало всё живее, всё выразительней, и волновало душу.
Всё, что он оставил за собой, вплоть до Натальи Алексеевны, казалось ему чужим миром; там был он ассимилировавшимся изгнанником, здесь – родным ребёнком этой земли… К несчастью, язык, физионогномика, одежда делали его русским и, когда с радостью он приближался к тем неизвестным братьям, они отстранялись от него с каким-то страхом и отвращением. Это его смутило… но он утешался тем, что в Варшаве найдёт свою родню, настоящую, семью матери, сестры и брата.
Для сироты, который никогда не вкушал удовольствий жизни в семейном кругу, эта надежда сблизиться с существами, связанными с ним кровными узами, была также великим счастьем. Он воображал, что его тут примут как брата… и обещал любить их… всей неудовлетворённой жаждой любви, которой до сих пор ещё использовать не мог.
Внешнее состояние страны и города, хотя в этом он не мог дать себе ясно отчёт, столь удивительно отличалось от русской, было в нём одновременно больше цивилизации и больше простоты, больше поэзии, веры и грусти, прежде всего, больше самостоятельного характера…
На больших трактах русской пустыни жизнь похожа на ту, какую можно заметить на железных дорогах мира, построенных в Африке и в Индиях, – мешанина самого дикого варварства и плодов, принесённых чужой цивилизацией. Всё, что получило человечество, позаимствованно Россией, привезено, деспотизм и неволя не позволили стране собственными силами сделать какого-либо прогресса; а прилепленные на этом фоне изобретения, достижения странно отличаются от почвы, на которой не выросли. Несмотря на либерельные реформы, в людях на всех ступенях видна какая-то азиатская разница каст, отделяющую человека от человека, общество отчётливо разбито на слои, которые сталкиваются, не перемешиваясь. Рядом с хатой из брёвен – кирпичный дворец, с бороной из веток ходит американская сеялка, сахарная фабрика трётся об острог, полный узников, железная дорога пересекает бездорожные пущи… полно противоречий, аномалии, непонятных загадок, все языки как при Вавилонской башне, все понятия смешаны, рационализм разнуздан, фанатизм как бы первых веков, секты и неверие, а над этим всем ненасытная жажда использования, нарушая всякие права общей морали.
Даже, когда в первый раз въезжаешь в бедное Королевство, поражает неизмеримая разница страны, которая иначе, медленно, собственнными силами зарабатывала свою цивилизацию. Тут всё лучше усвоено, сильнее вросло в почву, на которой стоит. Революционная Россия, лишённая традиций, в судорогах пугливого деспоизма переворачивающаяся на Прокустовом ложе, думает, что и нам, как и им, достаточно Милютина, чтобы похоронить девятисотлетнее прошлое – потому что выносит нам приговор от себя. У них всё стоит на песке – замки и институции одинаково легко переносятся и замещаются одни другими; в Польше то, что выросло из её земли, имело время пустить в ней корни.
Важно-грустной показалась путешественнику Польша, в которой повсюду по дороге находил красноречивые руины, свидетельствующие, на первый взгляд, о былом величии и процветании, о сегодняшнем упадке и угнетении… Горе женщин, может быть, не столько его поразило, сколько горе всей земли, покрытой свежими руинами, объявляющими о пытке и боли. Чёрные орлы достаточно объяснили эти последствия любезно нам предоставленной протекции и воплощения этого великого государства… которое умеет уничтожать, но создавать не может.
Несмотря на свою бедность, Польша любопытным его глазам показалась восхитительно красивой и радующей сердце – что-то от этой земли говорило ему великой идеей, за которую она была распята на кресте и сто лет лежала в муках под издевательством палача…
Грустный и взволнованный Наумов въехал в Варшаву, а вид этих толп в чёрном, мрачных и гордых лиц, разбуженных глаз, в которых, казалось, наворачивается кровавая слеза, этих людей, скованных телом и вольных духом, почти унизил офицера. Россия со всей своей отвратительной мощью казалась ему маленькой, дикой, слабой – такой сильный дух заметно горел в этом народе и, казалось, предвещал неслыханную борьбу.
Было это перед апрельскими событиями, в те времена колебания правительства, которое уже знало, что собиралось делать, а начать ещё стыдилось. Большие политики, знающие расположение столицы и высокомерие, которое никаких уступок не допустит, заранее понимающие, что в идее небогатая Россия должна была обратиться к штыку и действиям, уже в это время направляли правительство на ту дорогу насилия, по которой оно позже пошло в действительности. Адъютант князя Горчакова, М… который заклинал его пустить кровь мятежной Варшаве, маркграф, иные советовали суровость как проверенное лекарство…
Правительство, как тигр, который готовится броситься на добычу, всё ещё сжалось, прежде чем на неё прыгнуть, ждало предлога, взрыва, оправдания… Оно ещё не порвало полностью с Европой и раздумывало, должно ли бросить ей перчатку, – боялось войны и не было к ней готовым… колебалось в выборе людей и средств.
Этот короткий промежуток времени со 2 марта немного более кажущейся свободы дал понять ему, что лишь бы чем польский голод не уталит…
Наумов прибыл среди этого накала, а вид Варшавы устрашил его и разволновал… Сразу на следующий день он побежал искать свою родню. Брат пани Наумов-старший умер пару лет назад, но семья его, довольно многочисленная, жила в Варшаве, частью с матерью, частью уже на собственном хлебе. Из трёх его сыновей один был при Варшавско-Венской железной дороге, другой – урядником в банке, третий, самый младший, в Медицинской академии. Старшая дочка была замужем, а муж её занимал какую-то должность на значительной фабрике в городе, вторая и третья жили с матерью. Поэтому дом тёти Наумова, пани Быльской, на Лягушачьей улице, кроме пожилой матери, занимали две взрослые и молодые девушки, а также молодой парень.
Узнав сперва, где они жили, Наумов на следующий вечер с бьющимся сердцем побежал на Лягушачью улицу. Пани Быльская, живущая на пенсию и небольшой капитал, который был плодом экономии её мужа, занимала несколько комнаток, бедных, но опрятных, на втором этаже. Одна служанка и в то же время кухарка обслуживала семью, мать которой привыкла к работе и дочек заранее к ней приучила.
Входили через тёмную прихожую, которая вместе с тем была входом в маленькую кухонку.
Был вечер и красивая девушка как раз зажигала лампу в этой клетушке, собираясь принести её в комнату, в которой все собрались на чай, когда робко на пороге показался Наумов. Путешествие его научило, какое неприятное впечатление эта злополучная ливрея иностранного деспотизма производила на всех в Польше.
Красивая девушка, занятая лампой, казалась чрезвычайно удивлённой при виде офицера и, даже не дождавшись вопроса, начала кричать:
– Это не здесь, это, очевидно, ошибка. Пан русский живёт на третьем…
Но Наумов спросил пани Быльскую.
– А что вы от неё хотите? – спросила удивлённая девушка.
– Я хотел бы её увидеть.
– Сейчас, сейчас… но кто же вы? Если разрешено спросить?
Офицер догадался, почувствовал, что перед ним была кузина; она не выглядела служанкой, хотя, когда работала, на ней был белый фартучек, а одета была очень скромно.
– Меня зовут Наумов.
– А! Боже! Наумов! Вы не…
– Я племянник пани Быльской… то есть…
Девушка засмеялась. В её лице видно было желание подойти к родственнику, но чувствовала отвращение к мундиру и фамилии. Не желая принимать решение о том, как принять такого близкого пришельца, Магдуся открыла дверь комнаты и позвала: «Мама, мама!»
Спустя мгновение на пороге появилась женщина высокого роста, ещё крепкая, сильная, румяная, в повседневной домашней одежде, с лицом, исполненным доброты и здравого смысла. Её седеющие волосы плохо прикрывал развязанный чепчик, в руке она держала чайничек.
Заметив Наумова, она посмотрела на него и на дочку… молча.
– Вот этот господин хочет увидиться с тобой, матушка, – воскликнула Магдуся. – Пан Наумов, – прибавила она с нажимом.
– Пан Наумов! А! – крикнул старая Быльская.
Офицер, будто бы по-польски, целуя ей руку, начал представляться, весь дрожащий и смущённый.
– Входите же! Входите! Это сын Миси. О, Боже мой! Сын Миси! Русский… дорогой Иисус!! А! Ты русский! Магда, подай лампу, просим, просим. Как поживаете?
И, хотя с каким-то опасением, она поцеловала его в голову.
Этот сердечный поцелуй старой женщины для жаждущего объятий и любви сироты был таким сладким, так схватил беднягу за сердце, что чуть ли не со слезами он начал пожимать ей руки, а у Быльской также появилось доброе чувство и она обняла его за шею. Наумов расплакался.
– О, милый Боже! – воскликнула, поднимая руку, Быльская, которая любила покойную больше, чем её муж, и долго с ним даже борьбу вела, желая сироту к своим шести детям присоединить.
– О, милый Боже! Вот это он! Это тот милый Стас! Но что это они из него сделали! Ведь и польский язык забыл! И уже целиком русский!
Вся семья сбежалась на это приветствие, которому слёзы и возгласы матери придали сердечный характер. Академик Якубек, называемый в семье Кубой или Куцем, мальчик, румяный, как яблоко, с чёрными горящими глазами, и старшая сестра Магдуси, Ления, возможно, Элеонора.
По очереди стали обнимать Наумова и приветствовать как брата, хотя Богом и правдой не ведали, кого в этом человеке принимают – друга или врага? Верили только в те слёзы, которые заструились из его глаз и обнажили в нём сердце.
За лампой и Магдусей всё это потекло в гостиную, над тапчаном которого висел портрет князя Ёзефа, справа – Костюшко, слева – Килинский. На обширном серванте Ян III доставал саблю в защиту христианства.
Среди этих людей и этих воспоминаний русский сел, весь дрожа; он уже был им благодарен, что его не оттолкнули, что ему отворили дверь, несмотря на язык, на каком говорил, и одежду, которая была на нём.
Девушки шептались.
– Какой он странный!!
– Красивый парень, – говорила Магда, – но какой омоскаленный!! Какой русский, сестра! Слышала, как он говорит?
– Ну, пусть-ка тут побудет, тогда мы его снова польскому научим.