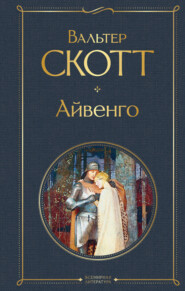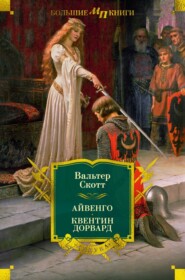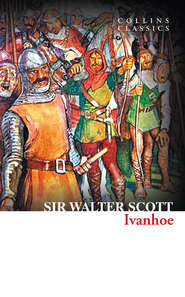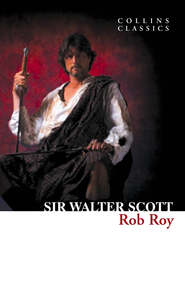По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный Карлик. Легенда о Монтрозе (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И, вероятно, получили довольно ясные указания от преподобного отца? – заметил лорд Ментейт.
– Как нельзя яснее, – отвечал капитан Дальгетти, – принимая в расчет, что мы с ним распили при этом полдюжины рейнвейна да усидели кувшина два киршвассера. Отец Фэтсайд объявил мне, что, по крайнему его разумению, для такого еретика, как я, совершенно все равно, что ходить к обедне, что не ходить, потому что я во всяком случае осужден на вечную погибель, будучи нераскаянным грешником, упорствующим в своей проклятой ереси. Такой ответ обескуражил меня немного, и я пошел посоветоваться к голландскому пастору реформатской церкви, который сказал, что, по его мнению, закон не воспрещает мне ходить к обедне, ибо пророк разрешил Нааману, храбрейшему кавалеру и весьма благородному сирийскому дворянину, входить вместе с его королем во храм Риммона, сиречь языческого бога или идола, которому тот король обещал служить, и даже дозволил склоняться перед ним, когда король опирался на его руку. Но и этот ответ меня не удовлетворил, потому что, во-первых, то был сирийский король, все-таки какой ни на есть помазанник, не чета нашему испанскому полковнику, которого я мог бы разом сдуть с места, как ореховую шелуху; а во-вторых, меня пуще всего смущало то, что ни по каким военным законам не обязан я был ходить к обедне, да и выгоды в том не видал, потому что особой платы за это не полагалось, а между тем могло быть для совести моей вредоносно.
– Так что вы опять переменили службу? – сказал лорд Ментейт.
– Вот именно, милорд, переменил. После этого пытался я на короткое время поступить к двум или трем другим державам; и даже несколько времени состоял на службе у голландских штатов…
– Ну, как же вам понравилось у них? – осведомился опять его собеседник.
– О, милорд! – воскликнул служака с некоторым восторгом. – Насчет жалованья всей Европе надо бы у них поучиться: ни они у тебя не занимают, ни ты у них, ни просрочек, ни проволочек, все начистоту; то есть так верно получаешь с них свои денежки, словно сам их в банк положил. Квартиры тоже у них отличные, и харчи первый сорт. Но зато народ они аккуратный, щепетильный, и никакой мелочи тебе не пропустят даром. Так что, например, пожалуется мужик, что ему голову проломили, или кабатчик заявит, что у него пивной кувшин расшибли, или пугливая девчонка где-нибудь пискнет, а честного воина за это потащат к ответу; да не своим военным судом судят, который, конечно, лучше может его рассудить, а призовут к бургомистру, простому ремесленнику низкого звания, и начнет он тебе угрожать и тюрьмой, и веревкой, и всякой такой дрянью, словно ты не воин, а такой же поганый земноводный, толстопузый мужик, как и он сам. Так я и не мог ужиться с этими неблагодарными плебеями: вот ведь, сами не умеют защищаться, силенки не хватает; а когда за это дело берется благородный иностранец, храбрый кавалер, они ему за это только жалованье платят и никакой воли не дают, а этого ни одна честная душа не вытерпит. Разве можно сравнить одно жалованье с привольным житьем да почетным обращением?.. Ну и порешил я с этими мингерами[75 - Мингер (гол. mijeheer) – господин, сударь, обращение без дворянского титула. Мингерами Дальгетти называет голландцев.] распроститься. А тут прослышал я, к превеликому моему удовольствию, что нынче летом затевается что-то для меня подходящее здесь, на любезной моей родине. Вот я и явился сюда, по пословице, точно нищий на свадьбу, с тем чтобы предложить свою боевую опытность, приобретенную в чужих краях, к услугам дорогих моих соотечественников. Итак, значит, теперь вся моя история известна вашему сиятельству, за исключением того лишь, как я себя вел в различных делах, в ратном поле, при осадах, штурмах и атаках; но это долго да и скучно рассказывать; и притом было бы приличнее говорить об этом кому другому, а не мне самому.
Глава III
Пусть о правах заботятся в палатах,
Мое же дело – драться без затей;
И я скажу, с наемниками в латах,
Что правы там, где платят пощедрей.
Донн[76 - Донн Джон (1573–1631) – английский поэт, сатирик и богослов.]
Между тем неровная тропинка становилась все уже, путники не могли более ехать рядом, разговор их пресекся, и лорд Ментейт, придержав на минуту коня, вступил вполголоса в переговоры со своими слугами. Капитан, очутившийся впереди всех, медленно поехал дальше и, поднявшись около четверти мили по каменистому и крутому скату, выехал на дно горной долины, по которой в глубоком русле протекал стремительный поток, а берега его, одетые зеленым дерном, были настолько широки, что наши путешественники снова получили возможность ехать рядом.
Лорд Ментейт тотчас возобновил беседу, прерванную неудобствами дороги.
– Мне думается, – сказал он, обращаясь к капитану Дальгетти, – что воин вашего почтенного закала, столь долго и с честью служивший доблестному шведскому королю, одушевляемый притом понятным презрением к низким ремесленникам голландских штатов, должен бы не задумываясь объявить себя сторонником короля Карла, а не тех худородных круглоголовых ханжей, которые бунтуют против него?
– Вы рассуждаете правильно, милорд, – сказал Дальгетти, – и я, при равенстве остальных условий, смотрел бы на дело в этом самом смысле. Однако существует такая южная поговорка, милорд, что одними словами репу не намаслишь. С тех пор как я приехал на родину, я довольно уж наслышался всякой всячины, чтобы понять, что честный человек волен пристать к любой из партий, замешанных в эту усобицу, а выбирать должен ту, которая ему больше приглянется. Вот вы, милорд, изволите говорить: «Верность престолу», а с той стороны кричат: «Свобода!» «За короля!» – орут одни. «За парламент!» – ревут другие. «Да здравствует Монтроз!» – возглашает Дональд, взмахивая шапкой. «Многая лета Аргайлу и Ливену!» – надсаживается южанин Сандерс, потрясая шляпой с пером. «Стой грудью за епископов!» – говорит священник в стихаре. «Бейся за кирху!» – кричит пастор в женевских скуфье и шарфе. Хорошие слова, что и говорить! Слова отличные. А вот которое дело правее – не знаю. Только то и знаю, что случалось мне на своем веку драться по колена в крови за такие дела, которые были вдесятеро хуже худшего из них.
– Ну, капитан Дальгетти, – сказал лорд Ментейт, – раз, по-вашему, обе партии равны, угодно вам будет сказать нам, по крайней мере, чем вы намерены руководствоваться при окончательном выборе?
– А двумя соображениями, милорд, – отвечал воин, – во-первых, которая из сторон учтивее попросит моих услуг, а во-вторых – это уж будет венцом первого условия, – которая из партий в состоянии щедрее отблагодарить меня за службу. Откровенно говоря, милорд, в настоящее время я по обоим пунктам склоняюсь на сторону парламента.
– Потрудитесь объяснить причины, – сказал лорд Ментейт, – и посмотрим, не могу ли я противопоставить им другие, более веские.
– Сэр, я не прочь обсудить этот вопрос, – сказал капитан Дальгетти, – лишь бы вы не теряли из виду моей чести и выгоды. Вот, например, в настоящее время здесь, в горах, собрались или собираются целые толпы хайлендеров, сторонников короля. Вам, сэр, известно ведь, что это за народ. Я не спорю, они телом крепки и духом бодры, и храбрости у них довольно, когда начнут драться; но дерутся они не по-людски, у них такие же понятия о военной дисциплине, какие были у древних скифов или у теперешних дикарей, американских индейцев. Они не ведают ни немецкого свистка, ни барабана, чтобы подавать сигналы: не бьют ни марш, ни тревогу, ни атаку, ни отступление, ни утреннюю зорю, ни вечернюю; только и знают свои проклятые скрипучие дудки, и хотя сами-то уверяют, будто понимают, что они там пищат, но для кавалера, привыкшего воевать в цивилизованной Европе, это нечто совершенно непонятное. Так что, возьмись я дисциплинировать отряд таких голоштанников, ведь они не поймут, что я им буду говорить; а если и поймут, сами посудите, милорд, станут ли меня слушаться эти полудикие молодцы, привыкшие слушаться своих собственных лэрдов и вождей и вовсе не приученные беспрекословно повиноваться офицеру. Если я буду, например, учить их строиться посредством извлечения квадратного корня, то есть образовать каре во столько рядов, по скольку человек в каждом ряду, что может из этого выйти? Я им преподам драгоценную тайну военной тактики, а они мне за это всадят ножик в живот, потому что какой-нибудь Мак-Алистер Мор, Мак-Шимей или Кэпперфе окажется на фланге либо в тылу, тогда как он считал себя вправе стоять впереди… Нет уж, правда говорится в Священном Писании: «Не мечите бисера перед свиньями, не то обратятся против вас, и вас же растерзают».
– Я полагаю, Эндерсон, – сказал лорд Ментейт, оборачиваясь назад к одному из слуг, ехавших за ним следом, – я полагаю, вы можете засвидетельствовать перед этим джентльменом, что мы очень нуждаемся в опытных офицерах и гораздо более расположены воспользоваться их воинской наукой, нежели он, по-видимому, ожидает.
– С дозволения вашей милости, – сказал Эндерсон, почтительно приподняв шапку, – когда подоспеет ирландская пехота, которую мы ждем, да и пора бы ей высадиться у западных гор, нам понадобятся знающие офицеры, чтобы хорошенько вымуштровать новобранцев.
– Вот это мне нравится, очень нравится, – сказал Дальгетти, – приятное было бы дело. Ирландцы – славные ребята, как есть молодцы. В ратном поле это лучший народ. Помню я, один раз, когда мы брали Франкфурт-на-Одере, я сам видел, как себя держала одна ирландская бригада: до тех пор они работали палашами и пиками, покуда не отбили сине-желтых шведов; а шведские бригады были тут из самых стойких и считались не хуже тех, что дрались под командой бессмертного Густава. И хотя бравый Хепберн, храбрый Лэмсдейл, бесстрашный Монро и другие кавалеры, да и я в том числе, ворвались с пиками в руках в город, но, если бы всем нам пришлось встретить такое же сопротивление, мы бы так и ушли с пустыми руками и без всякого удовольствия. Правда, по общепринятому обыкновению, мы тогда перерезали этих славных ирландцев всех до единого; а все-таки они заслуживали величайших похвал и стяжали неувядаемую славу… Вот потому я с тех пор так и люблю эту братию и почитаю их первейшим народом после шотландцев.
– Я думаю, – сказал Ментейт, – что почти могу вам обещать командование ирландцами, если вы надумаете пристать к партии короля.
– Да, – молвил капитан Дальгетти, – а второе-то, самое затруднительное условие так и остается под сомнением. Хоть я и считаю низким и непристойным для солдата, когда у него на языке только и есть что жалованье, как у тех подлецов, немецких ландскнехтов, о которых я вам рассказывал, и хотя я готов с мечом в руке доказать, что честь военная дороже жалованья, привольного житья и всяких добавочных доходов, однако, ех contrario[11 - С другой стороны (лат.).], солдатское жалованье – вознаграждение за службу, и всякому разумному кавалеру надлежит заранее сообразить, какая будет ему плата за труды и из каких источников она будет взиматься. А разве неправда, милорд, по всему, что я здесь слышал и видел, что деньги-то водятся только у парламентских толстосумов? Хайлендеров, конечно, легко удовлетворить, стоит только разрешить им воровать скот. Ирландцам ваше сиятельство и прочие господа могут, согласно военным обычаям, платить так редко и так мало, как вам заблагорассудится. Но таким образом нельзя же поступать с благородным кавалером, как я например, который должен держать своих лошадей, прислугу, оружие, амуницию и не может, да и не желает идти на войну на свой собственный счет.
Эндерсон, тот слуга, который только что выражал свое мнение, и теперь почтительно обратился к графу.
– Я думаю, милорд, – сказал он, – что, если вы позволите, я бы мог сказать нечто в опровержение второго условия капитана Дальгетти. Он желает знать, откуда мы возьмем свое жалованье; по моему рассуждению, и для нас открыты те же источники, из которых черпают ковенантеры. Они устанавливают налоги по своему усмотрению и грабят имущество друзей короля. А когда мы перейдем на равнину, да за нами наши хайлендеры, наши ирландцы, и мы сами с мечом в руках, небось там найдется немало разжиревших изменников, владеющих беззаконно нажитым добром; вот этим-то добром мы пополним нашу военную кассу, да и воинов наградим. Кроме того, то и дело пойдут конфискации поместьев; и король, раздавая земельные участки всем храбрым кавалерам, которые пойдут под его знаменем, тем самым и их наградит, да и накажет своих врагов. Словом, кто пойдет служить круглоголовым псам, может быть, и получит кое-какое жалованье, а кто присоединится к нашей партии, тот имеет шансы получить рыцарское, баронское, даже графское достоинство, коли выдастся счастье.
– А вы когда-нибудь служили, любезный друг? – спросил его капитан.
– Немного, сэр, только во время домашних наших междоусобиц, – скромно ответил тот.
– А в Германии не бывали на службе, или хоть в Нидерландах? – спросил Дальгетти.
– Никогда не имел чести, – отвечал Эндерсон.
– Могу сказать, – обратился Дальгетти к Ментейту, – что у вашего слуги много природного смысла и о военных предметах он имеет довольно точное понятие, рассуждает, впрочем, не совсем правильно, ибо похоже на то, что продает шкуру с медведя, прежде чем вышел на охоту. Однако я все это приму к сведению.
– Да, капитан, обдумайте хорошенько, – сказал лорд Ментейт, – целый вечер вам остается на размышления, потому что мы уж почти приехали к дому, где я надеюсь вам обеспечить ласковый прием.
– Вот это будет очень кстати, – сказал капитан, – потому что я с самого рассвета ничего не ел, кроме одной овсяной лепешки, да и той половину скормил своему коню. На третью петлю уж затянул на себе пояс – так отощал. Боялся даже, как бы тяжелые железные доспехи совсем с меня не свалились.
Глава IV
Когда-то, и не так давно,
В какое время – все равно,
В лощине темной и глухой
Собрались витязи толпой.
На них широкие плащи,
Щиты, кинжалы и мечи,
И все, как следует по моде,
У горцев принятой в народе.
Местон[77 - Местон Уильям (1688–1745) – шотландский поэт-сатирик.]
Перед путниками возвышался холм, покрытый старым еловым лесом; верхние, редкие ветви деревьев, распростертые на фоне западного горизонта, алели в лучах заката. Среди леса возвышались башни и трубы не то дома, не то замка, бывшего целью их странствия.
По тогдашнему обычаю главный корпус жилья состоял из двух узких зданий с высокими, заостренными крышами, которые перекрещивались между собой под прямым углом. Одна или две высокие вышки над крышей да башенки по всем углам, более похожие на перечницы, доставили этому дому горделивое название замка Дарнлинварах. Он был окружен двором, обнесенным невысокой каменной стеной, вдоль которой с внутренней стороны тянулись обычные службы.
По мере приближения к замку путешественники замечали следы недавних прибавлений к его обороне, вызванных, вероятно, смутами последнего времени. В различных частях дома, а также и окружавшей его ограды пробиты были ружейные бойницы, а окна тщательно защищены железными полосами, укрепленными и вдоль и поперек, подобно тюремным решеткам. Ворота во двор были заперты, и лишь после некоторого обмена осторожными вопросами и ответами один из притворов распахнулся и за воротами показалась пара сторожей, крепких хайлендеров, в полном вооружении, которые, подобно классическим стражам в «Энеиде», казались готовыми преградить вход, чуть только путники показались бы им подозрительными.
Войдя во двор, наши путешественники увидели новые приготовления к защите. Вокруг стен выстроены были подмостки для огнестрельных орудий, и одна или две пушки мелкого калибра, называемые фальконетами, были подняты на углах, у подножия башенок.
Из дома в ту же минуту выскочили несколько слуг, частью в одежде хайлендеров, частью в английском платье; одни бросились принять лошадей, как только гости спешились, остальные выстроились у входа в дом, чтобы проводить приезжих во внутренние покои. Но капитан Дальгетти отказался от услуг конюха, хотевшего взять на себя уход за его конем.
– Я привык всегда сам отводить в конюшню моего Густава, друзья мои, а назвал я его в честь непобедимого монарха, моего прежнего начальника; мы с моим конем старинные приятели и товарищи, и так как я часто нуждаюсь в услугах его ног, то, со своей стороны, пускаю в ход мой язык, чтобы добыть для него все, что требуется. – С этими словами капитан без церемонии вошел в конюшню вслед за своей лошадью.
Ни лорд Ментейт, ни его спутники не были так внимательны к своим коням и, поручив их заботам местной прислуги, пошли в дом, где в обширных темных сенях со сводами, в числе прочей разнородной утвари, стояла бочка с пивом и около нее два или три деревянных ковша или чары, нарочно с тем и поставленных, чтобы желающие могли утолять свою жажду. Лорд Ментейт вынул втулку, нацедил себе пива, напился и передал чару Эндерсону, который также последовал его примеру, но наперед выплеснул оставшиеся на дне капли и слегка сполоснул деревянную посудину.
– Вот черт! – молвил один старый хайлендер, давнишний слуга здешнего семейства. – Что ж ты не можешь пить после своего барина, а непременно тебе нужно мыть посуду и понапрасну тратить добро, провал бы тебя взял!
– Я воспитан во Франции, – отвечал Эндерсон, – а там ни один человек не станет пить после другого, разве только после молоденькой девушки.
– Вишь какая брезгливость у чертей! – продолжал старый Дональд. – Коли пиво хорошее, что ж тебе за дело, если в том же ковше побывала чужая борода?
Товарищ Эндерсона выпил, не соблюдая той церемонии, которая так возмутила Дональда, и оба последовали за своим хозяином в длинный зал с низкими каменными сводами, где обыкновенно держалась семья помещика. В дальнем конце зала в громадном камине разведен был огонь: топили торфом и света было немного, но огонь был необходим, потому что даже и среди лета тут было слишком сыро. Два-три десятка щитов, столько же палашей и кинжалов, пледы, кремневые ружья, мушкеты, луки, арбалеты, секиры, серебряные латы, стальные шлемы и шишаки, старинные кольчуги, то есть рубашки из металлических петель, с соответственным башлыком и рукавами, – все это в беспорядке висело по стенам и могло бы доставить на целый месяц приятное занятие какому-нибудь члену современного нам антикварного общества. Но тогдашние люди так пригляделись к подобным предметам, что даже не замечали их.