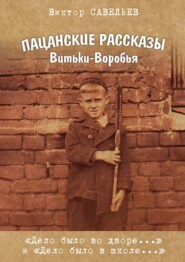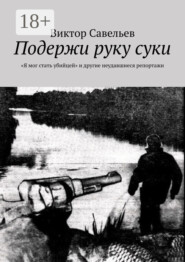По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я был, я видел, я летел… Репортаж и очерки разных лет. Вехи времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дело в том, что искусство театра не отражало в полной мере подлинную жизнь. Актеры играли, страдали, взывали к совести людской, а жизнь шла мимо, параллельным курсом. Тут-то зритель заскучал, разочаровался… Тревожные звонки заглушались громким звоном оптимистических колоколов. Оказывается, можно погрязнуть и в оптимизме…»
Я отложил в сторону очередное интервью в «Советской культуре», слова из которого привожу, и хмуро посмотрел на стопку газет на столе. Театральные люди в них били тревогу. Вовсю ругали ретроградов и лиц, до перестройки «зажимавших» актуальные темы, вовсю каялись, что проглядели эру телевидения и всесилие развлекательных шоу… Рецептов и вопросов было море. Кто ратовал за летучие театры-студии на хозрасчете, легко умирающие после того, как интерес к их спектаклям угас, кто уповал на молодую режиссуру и тот новый эксперимент, который вводится в ряде театров страны с нынешнего января и предполагает гибкость и инициативу. Судя по накалу страстей, проблема полупустого зала касалась не одной только Уфы и достигла к нашим дням остроты необыкновенной…
…Я невольно вспомнил, как после вчерашнего спектакля по мотивам гоголевских произведений «Ах, Невский!» – на котором я впервые дежурил без Галиной подстраховки и насчитал… 165 зрителей, – состоялся импровизированный разговор о репертуаре. Собственно, и разговора-то специально не было, а просто зашла к нам в администраторскую Анна Александровна Житкова – женщина пенсионных лет, в платочке и валенках, очень склонная порассуждать, как и многие люди при театре, а главное – вот уже лет пять занимающаяся с мужем распространением театральных билетов. Села за столик и, шевеля губами, стала читать январский репертуар театра, только привезенный из типографии и водруженный мною на гвозди. Как ни мало я работал в своей новой должности, а уже понимал, что чтение репертуара для Анны Александровны, получавшей определенный процент от реализации билетов, – святое дело, касающееся заработка. Хорош или плох нынче подбор спектаклей – для распространителя это вопрос самый живейший и бьющий по карману, тот же конкурирующий с театральным искусством эстрадный бог Леонтьев (помните: «подрезал» своими концертами?) нанес Анне Александровне ущерб не умозрительный, о каком пишут критики, а вполне ощутимый – в рублях и копейках. Так что для нее отмена спектакля – беда, мороз – беда, а ходкая пьеса с полным залом – спасение.
Очень похоже было, что и январский репертуар нашу Анну Александровну не порадовал.
— Пока не знаю, будет ли на премьеры народ ходить, – сообщила она нам со Светланой Николаевной. – Это я вам скажу после того, как сама на просмотрах побываю. А вот насчет прочего репертуара мне уже сейчас ясно. Ну, зачем опять два раза включили «Ах, Невский!», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» или идущую много лет «Страну Айгуль»? На них одни школьники и ходят! Тут только на «Эффекте Редькина» план можно вытянуть да, может быть, на премьерах. «Моя профессия – синьор из общества» – спектакль неплохой, но уж такой заезженный за три года! И «Эшелон» посмотрели все, он собирает людей только к дате…
Словом, вот так, сидя в платочке за столом, и разложила Житкова весь репертуар по полочкам, деля спектакли на те, которые зрителя дают и которые не дают. Она уже ушла бесшумно в валенках на мороз – ездить с билетами по организациям – а я все смотрел и смотрел на жирные синие строки январского репертуара и думал о странности наших оценок.
Разных людей я повидал в театре и разных точек зрения наслушался.
То, о чем гудела администраторская, – было, пожалуй, взглядом из окопа, ближе всех расположенного к передовой – то есть к зрительской массе, – взглядом острым и живым, но порой не поднимающимся выше окопного бруствера. Не все было видно с моего бойкого места – хотя и многое. А вот в то время, когда я скрипел ботинками по паркету театра, встречая зрителя, на спектакли тихо и без помпы ходили московские критики. Они тоже, что называется, по косточкам разобрали репертуар – но уже с других эстетических позиций. За некоторые неудачи театру изрядно попало от знающих сцену москвичей, но вот не слишком посещаемые «Вишневый сад» и «Ах, Невский!», так оригинально поставленный в Уфе приезжавшим профессором театрального училища им. Щукина А. М. Поламишевым, получили большое одобрение. «Прежде всего мы высоко ценим художественную ориентацию, на которую направлен театр», – сказали критики на заключительной встрече с творческим составом, имея в виду и то, что театр в попытках завоевать зрителя не сбивается на «шлягеры» для невзыскательного вкуса, а, напротив, старается будить мысль и нравственное чувство, не отказываясь от сложной в художественном отношении драматургии, на которой только и можно поднять сценическое мастерство и привлечь вдумчивого театрала…
Но давайте честно положим руку на сердце: разве нет правды и в словах нашей распространительницы билетов Анны Александровны? Ведь, в конечном счете, за ними стоит мнение многих тысяч зрителей – а зритель, как известно, голосует не на худсоветах: когда спектакль ему не по душе – он просто на него не приходит…
В этом свете в разительном контрасте с остальным репертуаром выступает октябрьская премьера театра – «Эффект Редькина», комедия-гротеск. На ней происходит то единение сценического действа со зрительным залом, ради которого и трудится в поте лица театр; когда «кипят» – по классику – и партер, и кресла; снуют, чтобы всех рассадить, озабоченные администраторы, когда и распространитель доволен, и артист – и зритель не внакладе… «Ты не смотрел еще „Редькина“? – спросили меня знакомые еще до того, как я устроился в театр. – Сходи, интересная вещь!»
Думается, в данном случае Русскому театру удалось нащупать нерв зрительского интереса. Разные времена пережила наша страна – но такого обновления и очищения давно не было. Мы похожи на людей, которые долгое время смотрелись в кривое зеркало – и лишь сейчас без прикрас и бодрячества пытаемся вглядеться, наконец, в свое реальное лицо. Те, кто следит за духовным процессом нашим, знают, что бывает, настанет час – когда писатель, вдруг устав от иносказательной образности, садится за прямую публицистическую статью, где называет своими именами черное и белое; когда общество требует сиюминутно «моментальных снимков» из своей жизни – в репортажах, документалистике, искусстве, чтобы разобраться в самом себе.
В этот период коренной ломки нерв театрального интереса – современная заостренная пьеса о нас же самих. Малоповоротливому по роду своей музы театру сегодня трудно поспеть за все бегущим временем. Невиданная конкуренция навалилась на него – мы то, припав к телеэкранам, слушаем диспуты на «Двенадцатом этаже» ТВ или изменившуюся программу «Время», то взахлеб читаем публицистику в наших газетах – все смелей несущую информацию из сфер, где еще недавно хозяйничали всякие радиоголоса… И когда тяжелая театральная ладья вплывает к нам, в наш мир, с пьесой актуальной и нужной – мы начинаем понимать, что у театра есть – и должен быть! – свой неповторимый голос, который не в состоянии заменить ни одно из смежных искусств…
Вот именно такой пьесой – словно угаданной временем – и стала комедия-гротеск «Эффект Редькина», пьеса, быть может, и не приподнятая до высот классического репертуара, но заразительно демократичная и местами настолько злая, что при общем признании по всей стране ее пытались по старинке «зажать», например, в городе Грозном, о чем недавно писали в газетах. Я специально во время действия покидал администраторскую и заходил в зал, чтобы видеть эффект «Эффекта»… И когда по сцене на трибуну поднимались наши болтуны и чинуши, когда карикатурно-бодрые пионеры начинали показушный церемониал – зал разражался гомерическим хохотом. Все это на нашей памяти и еще не умерло, мы знаем этих чинуш в лицо и даже поименно, мы рады выплеснуть на них наш здоровый, очищающий смех…
Четвертый месяц идет «Эффект Редькина» с неизменным успехом! Четвертый месяц – и все неизменно на этом спектакле зритель, полный или почти полный зал…
Но можно ли всю политику театра строить только на «Редькине»? – как сказал мне в споре один критик. Вот в чем, пожалуй, вопрос…
3
— Мейерхольд – гений!! – завывал футурист.
Не спорю, очень возможно. Пускай – гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я – масса. Я – зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр.
Из фельетонов М. Булгакова.
Люстры горят, как на спектакле, а на балконах в рядах кресел, где я сижу, вообще ни души. Зато слышно каждое слово снизу, из партера:
– Товарищи, я рад, что мы взяли такого сложного автора. Освоение такой драматургии потребует от нас больших сил…
Только что состоялся перед премьерой просмотр сдаточного спектакля – «черной» комедии японского драматурга Кобо Абэ «Друзья», а теперь внизу идет обсуждение. Страсти кипят еще и потому, что сдачу спектакля дотянули до последнего дня – и сейчас принимают его буквально перед выходом на сцену. Постановочная группа, конечно, на нервах, обсуждают все – и худсовет, и творческий состав, и приглашенные на просмотр гости.
— Кто еще выскажется? – предлагает председатель.
Внизу, в партере, кто-то встает:
— Мне вот здесь недавно, на моем юбилее, товарищи сказали немало хороших слов… – начинает человек, и я понимаю, что это заслуженный артист РСФСР Николай Михайлович Дроздов, чью выставку к 50-летию творческой деятельности я только недавно разглядывал в фойе.
— …К сожалению, таких же хороших слов я не могу сказать сейчас про увиденный спектакль…
Внизу воцаряется тишина.
— …Более того, он сильно не понравился. Сама пьеса произвела на меня впечатление страшное! А то, что сыграно, ей не соответствует… Мне очень горько, неприятно – но ничему в спектакле я не верю…
— И я согласна во многом с Дроздовым, – вступает в разговор артистка О. Б. Лопухова. – Очень понравилась заявка, но дальше пошел неправдоподобный конфликт…
Кажется, в партере буча. У каждого свой взгляд. Кто-то кричит:
— Нельзя сейчас актерам говорить такое! Неэтично! Им через три часа играть премьеру…
Не выдержав, я спускаюсь в партер – в конце концов как администратор я могу быть участником любого обсуждения. В партере – накал страстей, выступают подряд! Не всех я знаю – но важно в такой момент видеть лица. Вот Хаустов встает, вот Капатов – еще кто-то, еще… Спорят гости, горячатся артисты:
— Почему сдаем недотянутый спектакль? Где режиссура раньше была?
— Актеры сыграли неплохо – ярки Мидзяева, Агашкова, Федеряев, Шарипова! Но в чем концепция спектакля? Где мысль?
— Но это же ассоциативная, сложная драматургия! Кобо Абэ вообще сродни Достоевскому…
— Слишком много сырого, спорного… Поймет ли зритель? Если вся эта семейка – фашизм, то покажи ясней…
Встает кто-то из зала и, как молотом, оглушает собрание:
— А я считаю, что с таким подходом в эксперимент, что начали в стране, нам вступать нельзя. А посему предлагаю – отменить сегодняшнюю премьеру! Если сегодня мы сыграем неготовый спектакль, то и завтра поступим так же…
Это уж слишком! Как истинный администратор я лично таким поворотом потрясен: ОТМЕНИТЬ СПЕКТАКЛЬ! Отменить за три часа до премьеры, когда весь город съедется, как на парад, в театр… Когда разосланы приглашения, раскуплены билеты, когда каждая афиша на каждом углу кричит: ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА!
В партере – мешанина мнений, реакция обсуждавших – противоречива. Я готов схватиться за голову: если премьера лопнет, администраторскую разнесут…
Кажется, за следующие десять минут я раз десять пережил со всеми надежду и крушение, надежду и крушение… Сложилась ситуация, когда не решал никто – ни лица с правами, ни бедный худсовет. На занятых в спектакле актеров лучше не смотреть. Под крики, что этому пора положить конец, уставший председатель ставит вопрос на голосование – открытое, всем залом… Оно и решило судьбу «Друзей» – подавляющим большинством голосов решили спектакль сегодня играть, и срочно довести его до ума.
Наверное, в такие минуты начинаешь понимать, какой это сложный организм – театр и в каких муках рождает он действо, на которое мы порой идем позевывая… С чувством облегчения хожу я среди людей и декораций и слушаю, как все пристают друг к другу с вопросами, кому что понравилось, а что – нет… В комнате, где собрались режиссерские силы, тоже переводят дух и кроят сцены, которые надо менять… У молодого постановщика «Друзей» Бориса Михни лицо человека, перенесшего шквал… Кто-то советует: «Не переживай! Пиши на программках на память артистам: поздравляю с премьерой…». Кто-то уже смеется. Кто-то курит и пьет чай. Все разговоры – только о премьере и пьесе.
Я сижу в уголке на стуле и никому не мешаю. У меня тоже мнение о Кобо Абэ и о том, как его подавать. Если там не сбиты в кулак сцены – несущественно: склеют, на то они и спецы. Главным для меня было – не ощущал я жалости к герою, не ощущал – и всё тут. Конечно, тут были и условность, и подтекст, и второй план – но лишь в одном не могли меня убедить разговоры об интеллектуальном прочтении сложного, как Достоевский, Кобо Абэ – в том, что можно что-то постичь без сопереживания. Как бы ни была сложна пьеса, думал я, сидя на стуле в комнатке на задворках сцены, и какие бы философские вторые планы не рождала ее условность и символика, не может жить на сцене драматургия без самого первого для нее плана – без обычного сочувствия к своему, пусть даже очень условному герою…
Я вообще был уверен, что при всей убедительности поисков театра им не хватает внимания к простым и искренним чувствам – любви, радости или грусти, на которые так легко и охотно откликается человек. Вот и в Русском театре порой дивятся – отчего на какую-нибудь пьеску с «чувствами» валом валят те, кого мы свысока зовем неподготовленным зрителем. Как удобно порой сослаться на его неподготовленность! А не подготовлен он, между прочим, только к искусству, которое хочет воспитать его через голую мысль и сложность, забывая, что вся великая русская литература – да и сцена тоже! – учила уму-разуму на таких «самых простых» средствах, как сочувствие к безвестному Башмачкину, на жалости, сострадании, доброте…
Но это были лишь мои мысли – не более, чем спорные мысли после трудной пьесы, вызвавшей так много разных мнений и толкований. А пока я смотрел, как рождается новый спектакль – он все еще рождался в муке и спешке и обретал что-то новое с каждым выходом на сцену, как «дозревает» каждая новая постановка, но эта дозревала и меняла лицо в лихорадочных озарениях.
Этим же вечером комедия «Друзья» была с интересом принята многими зрителями, хотя кое-кто и ушел с нее. И пресса писала сочувственно, хотя не знала, как все это далось театру. В один из первых премьерных дней я стоял в коридорчике и смотрел, как Михаил Рабинович, главный режиссер, перед очередным выходом на сцену ободрял артистов, уже одетых для спектакля. Они стояли с напряженными лицами – работа была адова, акценты в сценах и ролях надо было менять на ходу. Я впервые их видел так близко – в гриме и тех плащах, в которых они сейчас под зонтиками выйдут на сцену, и понимал, как это сложно – победить в тех условиях, в которые поставила премьера. Были они внимательны и отрешены – готовились к главному, входили в образ, кто-то – по-моему, Федеряев – мерил шагами коридор. Последние минуты до выхода, последние минуты… Еще никто не знал, что вскоре критики признают их работу удачей театра, что скажут лестные слова… Они стояли, еще ничего не зная, и походили на гладиаторов перед выходом на последний бой; о, как я уважал их отрешенность в эти минуты! И вовсе неважно было, кто и в чем был прав или не прав в наших этих спорах о пьесе, главным было, что спектакль СОСТОЯЛСЯ, что в чудовищной спешке и стрессе они – эти несколько человек победили усталость и разлад – а значит, вместе с ними победил театр…
4
Театр – это кафедра, с которой много добра можно сказать людям.
Н. В. Гоголь.
Подходил к концу срок моей работы в администраторской, и эти записки мне бы хотелось закончить какой-то историей – красивой, театральной, непременно с торжественной встречей и цветами. Но цветы достаются только артистам после премьеры, а нам, администраторам, все больше шишки… Потому и история моя будет грустна – так, все больше грубая проза жизни…
Я отложил в сторону очередное интервью в «Советской культуре», слова из которого привожу, и хмуро посмотрел на стопку газет на столе. Театральные люди в них били тревогу. Вовсю ругали ретроградов и лиц, до перестройки «зажимавших» актуальные темы, вовсю каялись, что проглядели эру телевидения и всесилие развлекательных шоу… Рецептов и вопросов было море. Кто ратовал за летучие театры-студии на хозрасчете, легко умирающие после того, как интерес к их спектаклям угас, кто уповал на молодую режиссуру и тот новый эксперимент, который вводится в ряде театров страны с нынешнего января и предполагает гибкость и инициативу. Судя по накалу страстей, проблема полупустого зала касалась не одной только Уфы и достигла к нашим дням остроты необыкновенной…
…Я невольно вспомнил, как после вчерашнего спектакля по мотивам гоголевских произведений «Ах, Невский!» – на котором я впервые дежурил без Галиной подстраховки и насчитал… 165 зрителей, – состоялся импровизированный разговор о репертуаре. Собственно, и разговора-то специально не было, а просто зашла к нам в администраторскую Анна Александровна Житкова – женщина пенсионных лет, в платочке и валенках, очень склонная порассуждать, как и многие люди при театре, а главное – вот уже лет пять занимающаяся с мужем распространением театральных билетов. Села за столик и, шевеля губами, стала читать январский репертуар театра, только привезенный из типографии и водруженный мною на гвозди. Как ни мало я работал в своей новой должности, а уже понимал, что чтение репертуара для Анны Александровны, получавшей определенный процент от реализации билетов, – святое дело, касающееся заработка. Хорош или плох нынче подбор спектаклей – для распространителя это вопрос самый живейший и бьющий по карману, тот же конкурирующий с театральным искусством эстрадный бог Леонтьев (помните: «подрезал» своими концертами?) нанес Анне Александровне ущерб не умозрительный, о каком пишут критики, а вполне ощутимый – в рублях и копейках. Так что для нее отмена спектакля – беда, мороз – беда, а ходкая пьеса с полным залом – спасение.
Очень похоже было, что и январский репертуар нашу Анну Александровну не порадовал.
— Пока не знаю, будет ли на премьеры народ ходить, – сообщила она нам со Светланой Николаевной. – Это я вам скажу после того, как сама на просмотрах побываю. А вот насчет прочего репертуара мне уже сейчас ясно. Ну, зачем опять два раза включили «Ах, Невский!», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» или идущую много лет «Страну Айгуль»? На них одни школьники и ходят! Тут только на «Эффекте Редькина» план можно вытянуть да, может быть, на премьерах. «Моя профессия – синьор из общества» – спектакль неплохой, но уж такой заезженный за три года! И «Эшелон» посмотрели все, он собирает людей только к дате…
Словом, вот так, сидя в платочке за столом, и разложила Житкова весь репертуар по полочкам, деля спектакли на те, которые зрителя дают и которые не дают. Она уже ушла бесшумно в валенках на мороз – ездить с билетами по организациям – а я все смотрел и смотрел на жирные синие строки январского репертуара и думал о странности наших оценок.
Разных людей я повидал в театре и разных точек зрения наслушался.
То, о чем гудела администраторская, – было, пожалуй, взглядом из окопа, ближе всех расположенного к передовой – то есть к зрительской массе, – взглядом острым и живым, но порой не поднимающимся выше окопного бруствера. Не все было видно с моего бойкого места – хотя и многое. А вот в то время, когда я скрипел ботинками по паркету театра, встречая зрителя, на спектакли тихо и без помпы ходили московские критики. Они тоже, что называется, по косточкам разобрали репертуар – но уже с других эстетических позиций. За некоторые неудачи театру изрядно попало от знающих сцену москвичей, но вот не слишком посещаемые «Вишневый сад» и «Ах, Невский!», так оригинально поставленный в Уфе приезжавшим профессором театрального училища им. Щукина А. М. Поламишевым, получили большое одобрение. «Прежде всего мы высоко ценим художественную ориентацию, на которую направлен театр», – сказали критики на заключительной встрече с творческим составом, имея в виду и то, что театр в попытках завоевать зрителя не сбивается на «шлягеры» для невзыскательного вкуса, а, напротив, старается будить мысль и нравственное чувство, не отказываясь от сложной в художественном отношении драматургии, на которой только и можно поднять сценическое мастерство и привлечь вдумчивого театрала…
Но давайте честно положим руку на сердце: разве нет правды и в словах нашей распространительницы билетов Анны Александровны? Ведь, в конечном счете, за ними стоит мнение многих тысяч зрителей – а зритель, как известно, голосует не на худсоветах: когда спектакль ему не по душе – он просто на него не приходит…
В этом свете в разительном контрасте с остальным репертуаром выступает октябрьская премьера театра – «Эффект Редькина», комедия-гротеск. На ней происходит то единение сценического действа со зрительным залом, ради которого и трудится в поте лица театр; когда «кипят» – по классику – и партер, и кресла; снуют, чтобы всех рассадить, озабоченные администраторы, когда и распространитель доволен, и артист – и зритель не внакладе… «Ты не смотрел еще „Редькина“? – спросили меня знакомые еще до того, как я устроился в театр. – Сходи, интересная вещь!»
Думается, в данном случае Русскому театру удалось нащупать нерв зрительского интереса. Разные времена пережила наша страна – но такого обновления и очищения давно не было. Мы похожи на людей, которые долгое время смотрелись в кривое зеркало – и лишь сейчас без прикрас и бодрячества пытаемся вглядеться, наконец, в свое реальное лицо. Те, кто следит за духовным процессом нашим, знают, что бывает, настанет час – когда писатель, вдруг устав от иносказательной образности, садится за прямую публицистическую статью, где называет своими именами черное и белое; когда общество требует сиюминутно «моментальных снимков» из своей жизни – в репортажах, документалистике, искусстве, чтобы разобраться в самом себе.
В этот период коренной ломки нерв театрального интереса – современная заостренная пьеса о нас же самих. Малоповоротливому по роду своей музы театру сегодня трудно поспеть за все бегущим временем. Невиданная конкуренция навалилась на него – мы то, припав к телеэкранам, слушаем диспуты на «Двенадцатом этаже» ТВ или изменившуюся программу «Время», то взахлеб читаем публицистику в наших газетах – все смелей несущую информацию из сфер, где еще недавно хозяйничали всякие радиоголоса… И когда тяжелая театральная ладья вплывает к нам, в наш мир, с пьесой актуальной и нужной – мы начинаем понимать, что у театра есть – и должен быть! – свой неповторимый голос, который не в состоянии заменить ни одно из смежных искусств…
Вот именно такой пьесой – словно угаданной временем – и стала комедия-гротеск «Эффект Редькина», пьеса, быть может, и не приподнятая до высот классического репертуара, но заразительно демократичная и местами настолько злая, что при общем признании по всей стране ее пытались по старинке «зажать», например, в городе Грозном, о чем недавно писали в газетах. Я специально во время действия покидал администраторскую и заходил в зал, чтобы видеть эффект «Эффекта»… И когда по сцене на трибуну поднимались наши болтуны и чинуши, когда карикатурно-бодрые пионеры начинали показушный церемониал – зал разражался гомерическим хохотом. Все это на нашей памяти и еще не умерло, мы знаем этих чинуш в лицо и даже поименно, мы рады выплеснуть на них наш здоровый, очищающий смех…
Четвертый месяц идет «Эффект Редькина» с неизменным успехом! Четвертый месяц – и все неизменно на этом спектакле зритель, полный или почти полный зал…
Но можно ли всю политику театра строить только на «Редькине»? – как сказал мне в споре один критик. Вот в чем, пожалуй, вопрос…
3
— Мейерхольд – гений!! – завывал футурист.
Не спорю, очень возможно. Пускай – гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я – масса. Я – зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр.
Из фельетонов М. Булгакова.
Люстры горят, как на спектакле, а на балконах в рядах кресел, где я сижу, вообще ни души. Зато слышно каждое слово снизу, из партера:
– Товарищи, я рад, что мы взяли такого сложного автора. Освоение такой драматургии потребует от нас больших сил…
Только что состоялся перед премьерой просмотр сдаточного спектакля – «черной» комедии японского драматурга Кобо Абэ «Друзья», а теперь внизу идет обсуждение. Страсти кипят еще и потому, что сдачу спектакля дотянули до последнего дня – и сейчас принимают его буквально перед выходом на сцену. Постановочная группа, конечно, на нервах, обсуждают все – и худсовет, и творческий состав, и приглашенные на просмотр гости.
— Кто еще выскажется? – предлагает председатель.
Внизу, в партере, кто-то встает:
— Мне вот здесь недавно, на моем юбилее, товарищи сказали немало хороших слов… – начинает человек, и я понимаю, что это заслуженный артист РСФСР Николай Михайлович Дроздов, чью выставку к 50-летию творческой деятельности я только недавно разглядывал в фойе.
— …К сожалению, таких же хороших слов я не могу сказать сейчас про увиденный спектакль…
Внизу воцаряется тишина.
— …Более того, он сильно не понравился. Сама пьеса произвела на меня впечатление страшное! А то, что сыграно, ей не соответствует… Мне очень горько, неприятно – но ничему в спектакле я не верю…
— И я согласна во многом с Дроздовым, – вступает в разговор артистка О. Б. Лопухова. – Очень понравилась заявка, но дальше пошел неправдоподобный конфликт…
Кажется, в партере буча. У каждого свой взгляд. Кто-то кричит:
— Нельзя сейчас актерам говорить такое! Неэтично! Им через три часа играть премьеру…
Не выдержав, я спускаюсь в партер – в конце концов как администратор я могу быть участником любого обсуждения. В партере – накал страстей, выступают подряд! Не всех я знаю – но важно в такой момент видеть лица. Вот Хаустов встает, вот Капатов – еще кто-то, еще… Спорят гости, горячатся артисты:
— Почему сдаем недотянутый спектакль? Где режиссура раньше была?
— Актеры сыграли неплохо – ярки Мидзяева, Агашкова, Федеряев, Шарипова! Но в чем концепция спектакля? Где мысль?
— Но это же ассоциативная, сложная драматургия! Кобо Абэ вообще сродни Достоевскому…
— Слишком много сырого, спорного… Поймет ли зритель? Если вся эта семейка – фашизм, то покажи ясней…
Встает кто-то из зала и, как молотом, оглушает собрание:
— А я считаю, что с таким подходом в эксперимент, что начали в стране, нам вступать нельзя. А посему предлагаю – отменить сегодняшнюю премьеру! Если сегодня мы сыграем неготовый спектакль, то и завтра поступим так же…
Это уж слишком! Как истинный администратор я лично таким поворотом потрясен: ОТМЕНИТЬ СПЕКТАКЛЬ! Отменить за три часа до премьеры, когда весь город съедется, как на парад, в театр… Когда разосланы приглашения, раскуплены билеты, когда каждая афиша на каждом углу кричит: ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА!
В партере – мешанина мнений, реакция обсуждавших – противоречива. Я готов схватиться за голову: если премьера лопнет, администраторскую разнесут…
Кажется, за следующие десять минут я раз десять пережил со всеми надежду и крушение, надежду и крушение… Сложилась ситуация, когда не решал никто – ни лица с правами, ни бедный худсовет. На занятых в спектакле актеров лучше не смотреть. Под крики, что этому пора положить конец, уставший председатель ставит вопрос на голосование – открытое, всем залом… Оно и решило судьбу «Друзей» – подавляющим большинством голосов решили спектакль сегодня играть, и срочно довести его до ума.
Наверное, в такие минуты начинаешь понимать, какой это сложный организм – театр и в каких муках рождает он действо, на которое мы порой идем позевывая… С чувством облегчения хожу я среди людей и декораций и слушаю, как все пристают друг к другу с вопросами, кому что понравилось, а что – нет… В комнате, где собрались режиссерские силы, тоже переводят дух и кроят сцены, которые надо менять… У молодого постановщика «Друзей» Бориса Михни лицо человека, перенесшего шквал… Кто-то советует: «Не переживай! Пиши на программках на память артистам: поздравляю с премьерой…». Кто-то уже смеется. Кто-то курит и пьет чай. Все разговоры – только о премьере и пьесе.
Я сижу в уголке на стуле и никому не мешаю. У меня тоже мнение о Кобо Абэ и о том, как его подавать. Если там не сбиты в кулак сцены – несущественно: склеют, на то они и спецы. Главным для меня было – не ощущал я жалости к герою, не ощущал – и всё тут. Конечно, тут были и условность, и подтекст, и второй план – но лишь в одном не могли меня убедить разговоры об интеллектуальном прочтении сложного, как Достоевский, Кобо Абэ – в том, что можно что-то постичь без сопереживания. Как бы ни была сложна пьеса, думал я, сидя на стуле в комнатке на задворках сцены, и какие бы философские вторые планы не рождала ее условность и символика, не может жить на сцене драматургия без самого первого для нее плана – без обычного сочувствия к своему, пусть даже очень условному герою…
Я вообще был уверен, что при всей убедительности поисков театра им не хватает внимания к простым и искренним чувствам – любви, радости или грусти, на которые так легко и охотно откликается человек. Вот и в Русском театре порой дивятся – отчего на какую-нибудь пьеску с «чувствами» валом валят те, кого мы свысока зовем неподготовленным зрителем. Как удобно порой сослаться на его неподготовленность! А не подготовлен он, между прочим, только к искусству, которое хочет воспитать его через голую мысль и сложность, забывая, что вся великая русская литература – да и сцена тоже! – учила уму-разуму на таких «самых простых» средствах, как сочувствие к безвестному Башмачкину, на жалости, сострадании, доброте…
Но это были лишь мои мысли – не более, чем спорные мысли после трудной пьесы, вызвавшей так много разных мнений и толкований. А пока я смотрел, как рождается новый спектакль – он все еще рождался в муке и спешке и обретал что-то новое с каждым выходом на сцену, как «дозревает» каждая новая постановка, но эта дозревала и меняла лицо в лихорадочных озарениях.
Этим же вечером комедия «Друзья» была с интересом принята многими зрителями, хотя кое-кто и ушел с нее. И пресса писала сочувственно, хотя не знала, как все это далось театру. В один из первых премьерных дней я стоял в коридорчике и смотрел, как Михаил Рабинович, главный режиссер, перед очередным выходом на сцену ободрял артистов, уже одетых для спектакля. Они стояли с напряженными лицами – работа была адова, акценты в сценах и ролях надо было менять на ходу. Я впервые их видел так близко – в гриме и тех плащах, в которых они сейчас под зонтиками выйдут на сцену, и понимал, как это сложно – победить в тех условиях, в которые поставила премьера. Были они внимательны и отрешены – готовились к главному, входили в образ, кто-то – по-моему, Федеряев – мерил шагами коридор. Последние минуты до выхода, последние минуты… Еще никто не знал, что вскоре критики признают их работу удачей театра, что скажут лестные слова… Они стояли, еще ничего не зная, и походили на гладиаторов перед выходом на последний бой; о, как я уважал их отрешенность в эти минуты! И вовсе неважно было, кто и в чем был прав или не прав в наших этих спорах о пьесе, главным было, что спектакль СОСТОЯЛСЯ, что в чудовищной спешке и стрессе они – эти несколько человек победили усталость и разлад – а значит, вместе с ними победил театр…
4
Театр – это кафедра, с которой много добра можно сказать людям.
Н. В. Гоголь.
Подходил к концу срок моей работы в администраторской, и эти записки мне бы хотелось закончить какой-то историей – красивой, театральной, непременно с торжественной встречей и цветами. Но цветы достаются только артистам после премьеры, а нам, администраторам, все больше шишки… Потому и история моя будет грустна – так, все больше грубая проза жизни…