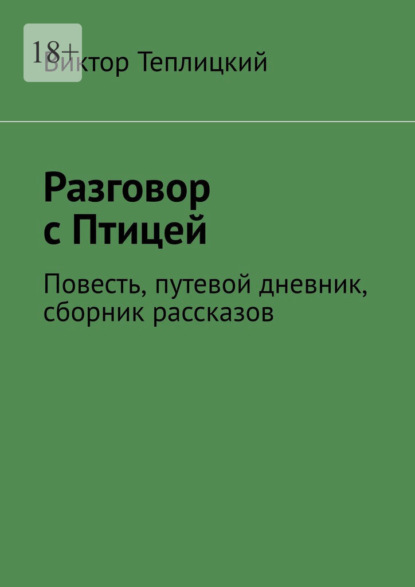По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разговор с Птицей. Повесть, путевой дневник, сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре она сменила обстановку… и сожителя. Всё прошло по-тихому, без сцен и реплик: она исчезла из квартиры, потом – из моей жизни. Звонки по телефону становились короче, темы – скучнее; благо, что не завели ребёнка и не обросли крепко вещами. Как-то Аня сообщила, что выходит замуж – по-настоящему, с венчанием, свадьбой и прочими делами и что лучше ей больше не звонить. Так мы поставили точку.
Тосковал ли я? Скорее, да.
_______________________________________________________________
Стволы низеньких городских сосен ловили последние крохи тепла, подставляли шершавую кожу бледному солнцу. Дым сигареты обволакивал кору, синий яд проникал внутрь – к самому сердцу древа, – отравлял его неспешную жизнь.
Я швырнул окурок в пустую урну.
Когда ушла Аня, я поселился у бабушки. И тогда началась мастерская – до ожесточения, до немоты в пальцах, ночи напролёт. Но дерево почему-то не повиновалось, как прежде. Или я стал более привередлив? Возомнил себя непризнанным гением?
А потом ушла бабушка. Смерть увела её по-житейски просто, аккуратно расписавшись в нужной графе: с мигалками «скорой помощи» за окном, с отстранённым лицом медсестры, складными носилками, чужими людьми, бумагами…
Квартиру поглотила пустота – беспросветная, безглагольная. Поначалу эта пустота пугала, потом я привык.
Несколько раз я звонил Ане, пока трубку не взял её новый… Что ж, сам виноват. Она предупреждала. Я всегда удивлялся Аниной способности раскладывать всё по полочкам: ровно, аккуратно, как стопки белья в шкафу.
Я ушёл из офиса, снова взялся за метлу, принялся сторожить детские сады, но нигде долго не задерживался. Дерево не отпускало. И тогда, неожиданно для себя, сел за руль; кто-то предложил – я не стал отказываться. И колесо покатилось. Сначала в горку: менял резцы, породы, перелопатил уйму литературы. Но под уклон ехать проще, да и лишний повод пожалеть себя. К тёмному коньяку стала прибавляться беленькая, а в доме стали появляться странные личности – угловатые, с шершавыми словами и плохо выбритыми подбородками. Откуда они приходили и куда исчезали, я не знал, имен не помнил и никак не мог усвоить понятия, по которым жила эта братия.
Теперь я скользил вниз, а жать на тормоз не хотелось, да и не имело смысла. Я продал резцы, завалил мастерскую хламом. Серенькие картинки мельтешили то за стеклом кухни, то за стеклом машины.
Плоть, начинённая алкоголем, требовала своего, но, опрокидывая в себя очередную рюмку, я уже знал черту, которую нужно пересечь, чтобы не одолели ни похоть, ни отчаяние; я бухался на кушетку и проваливался в мутную кружащуюся бездну.
Но иногда находило. И алкоголь не помогал. Жуть! Из неведомых глубин поднимались какие-то скользкие сущности. Они то яростно бились о стенки черепной коробки, извиваясь, порождали в сознании мерзкие картинки, то истошно выли так, что цепенело сердце. Оно превращалось в острый камешек, зажатый в холодные тиски – вот-вот разлетится на осколки, – потом вдруг срывалось и падало, падало в непроглядную темень. Я скрючивался на кушетке, поджимал колени к животу, зарывался с головой в ветхое покрывало. В этой норе я пережидал, стиснув зубами край простыни. Но твари не унимались, а только сменяли друг друга, пока окончательно не поглощала тоска. Часы уныния тянулись, словно сброшенная гигантской змеёй кожа, и оставалось только одно – рассматривать сквозь дыры трещины на потолке или лепестки на обоях и ждать, пока не вернутся звуки, цвета, запахи.
Пока не приплывёт большая серебристая рыба.
Спрыгнуть с громыхающего поезда жизни. Почему я сразу не догадался? Болтался в нём как дурак. Чего ждал? Просвета? Ладно, ещё рывок, и я на свободе! И ни тоски, ни дрянных мыслей. Нуль. Абсолютный. Подожди, это у кого? А, Федор Михайлович. Как там: «через два часа всё угаснет и я обращусь в абсолютный нуль». К чертям собачьим все эти часы во вселенной. Я свободен от них… как пескарь на бурном перекате.
Я потянулся за сигаретой, но передумал.
Прошлое. Кажется, оторви да выбрось, но тянет, зараза, тянет. А почему бы и нет? Всё равно всё угаснет…
Но были на этом пути вниз и короткие остановки. Например, молчание в темноте. Сидишь, руки на коленях, и молчишь. Слушаешь тишину, себя в ней. Это у меня ещё с детства. Придёшь зимой в школу до начала уроков, пока темно и тихо в коридорах, заберёшься на подоконник и наблюдаешь, как ползут по дороге фонари машин, торопятся редкие пешеходы, и так хорошо, спокойно становится. И думаешь о чём-то своём… Сразу взял за правило – молчать только трезвым.
Я откинулся на скамейку, сцепил руки на затылке. Надо мной текли синие воды. Бездонные, безмолвные. Бесконечные? Вряд ли. В этом мире всё имеет свой конец. Безначальные? Чушь! Чёрт, куда меня сегодня всё время относит! Накатил-то у Марго всего ничего, грамм-молекула, и вот взяло, однако. А всё-таки, вдруг это синее надо мной — действительно вода и я уже на дне? Мы все на дне, только этого не знаем. Такое бы и Бересту в голову не пришло.
С Женькой мы сдружились, когда я учился на третьем курсе. Раньше виделись, но почти не общались, хотя жили в одном проулке. Я, конечно, знал почти всех дворовых пацанов, но держался особняком. Так сложилось. Пацаны, со своей стороны, относились ко мне ровно. В те времена, когда ходили район на район и можно было запросто схлопотать от «качинских» только за то, что ты с «Николаевки», каждый боец был на счету.
Женька вернулся из армии и, как полагается, гулял. Дома у него собирались все, кому не лень и кто всегда не прочь «раздавить фуфырик». Родители его были в разводе. Разъехавшись к своим новым половинам, они оставили квартиру сыну под присмотром родственников. Родственники – глухой хромой дед и бабка – жили в деревянном доме через пару остановок и к внуку заглядывали редко, так что соседям пришлось смириться с молодым хозяином первого этажа; жаловаться в соответствующие инстанции они не решались.
Узелок дружбы завязался на концерте «Пикника» в видавшем виды ДК. Я удивился, увидев Женьку в фойе – одного. Условились после концерта домой идти вместе. Вот тогда, перепрыгивая через подмороженные лужи, выяснили, что слушаем одну музыку, читаем похожие книги. Но больше всего поразило, что оба любим стихи. Женька даже что-то писал, но никому не показывал.
Так бывает, что две речушки сбегают с разных гор, а потом неожиданно сливаются в одну и текут уже вместе до моря-океана. Женьке, наверное, было слишком тесно в его широком окружении, а мне слишком просторно в моей отстранённости. Он никогда не приходил ко мне с пустыми руками: то с банкой свежей клубники, то с бутылкой портвейна. Тем для разговоров всегда хватало…
…Потянуло холодком. Я поднял воротник, сунул руки в карманы. Смотреть на небо не хотелось.
…Сидим на кухне, спорим «за жизнь», а в соседней комнате круто кипит веселье. Женька кладёт слова ровно, не придерёшься. Я тоже набираю глаголы, расставляю их редкими штакетинами. Но тут в кухню просовывается чья-то голова, и с ней врывается шум застолья. Голова обиженно бухтит:
– Берест, хорош трепаться! Там народ ждёт.
– Да иду уже, иду, – Женька недовольно машет руками, – сейчас.
Голова исчезает. Женька вздыхает:
– Ладно, двигаем к массам. После договорим.
Словесные построения рассыпаются, штакетины откатываются в сторону. Я был случайным человеком на этом празднике жизни, и когда Берест (прозвище от Берестов) в черной майке без рукавов, трико и тапочках на босу ногу располагался на диване, я незаметно ускользал.
Иногда Женька приходил ко мне с тетрадью, исписанной мелким почерком. Если родителей не было, мы уговаривали портвейн (в основном Женька, я только помогал) под стихи из тетради или песни «Зоопарка» и убирались из дома, не забыв помыть за собой посуду. Но виделись мы редко. Я грыз гранит нелюбимой науки, Женька болтался с дружками и всё собирался устроиться на работу. Что-то мешало ему найти
«то важное,
за что готов рвать рот и вены —
себе, другим,
лезть напролом, на стены»,
грызло изнутри чёрным пламенем неизбывной тоски.
А потом мне позвонили.
Голос на другом конце провода глухо вытолкнул слова: «Привет. Короче, это, Берест умер. Приходи к нему на хату».
Я не поверил. За окном крепчал январский мороз, безмятежно кружились белые хлопья, укутывая город. И при чём тут чья-то смерть. Женькина?
Пару дней назад Берест принёс любимую пластинку, радостно протянул и сразу с порога: «Дарю». Встретив мой недоумевающий взгляд, пояснил: «Поднадоела уже. Другого хочется». Мы выпили по кружке сладкого чая, молча размачивая сухари.
Вышли на улицу. Хлопья ложились на шапку, плечи.
Женька поднял руку: «Пока».
«Увидимся», – ответил я.
Женька улыбнулся, подмигнул, ещё раз помахал рукой, развернулся и побрёл к дому. Я смотрел ему вслед, а снегопад неспешно заштриховывал уходящую в сумерки фигуру.
И вот теперь, будто из берлоги: «Берест умер».
Когда я подошёл к дому, у подъезда курили знакомые парни, человек пять. Я поздоровался. Мы прошли в квартиру. На кухне за столом с пепельницей сидел отец, в зале на диване мать комкала носовой платок, прикладывала к глазам. Возле неё стояла бабушка и какая-то женщина. Отец, кивнув нам, уставился в окно. Тяжёлым пологом висела тишина, в которой вязли редкие всхлипывания, вздохи, слабый уличный шум.
Женька лежал в спальне на матраце на полу в своей обычной одежде: чёрная майка, трико. Рядом валялся целлофановый пакет; его уже сняли. Казалось, Женька спит и сейчас должен проснуться.
Мы стояли над Берестом, и в мёртвой, потусторонней тишине чувствовали неловкость – случайные свидетели чужой семейной драмы. Потом услышали голос отца, говорившего по телефону: «Саш, приезжай… Надо… Женьки нет. Да никуда не уехал. Умер. – И надрывно со всхлипом в бездонное жерло трубки: – Нет его больше!»
И это «нет его больше», словно длинным гвоздём, вспороло тугой полог, из-под которого рванулся вопль матери, заметался по завешанным зеркалам, рухнул на тело сына.
«Как нет? – думал я. – Да вот же он, здесь. Сейчас проснётся. Сейчас». Но откуда-то сбоку: «Всё. Поднимаем, выносим. Грузовик подъехал».