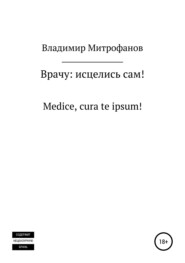По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Телохранитель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, я должна сама это видеть! Я спать не буду.
– Поехали!
Взяли еще такси. Вечер, похоже, затянулся. Ехали недолго, остановились на набережной Малой Невки. Было прохладно и ветрено. Смартфон полетел в воду, булькнув, ушел в глубину, блеснув напоследок дисплеем.
– Когда-нибудь водолазы найдут его и скачают интересный файл, – не удержавшись, подколол Ховрин.
– Как ты можешь так разговаривать с юной невинной девушкой? – вяло возмутилась Катя.
– Кстати, я-то не пытался отсосать у какого-то неизвестного мужика!
– Хватит уже! Мне точно что-то подлили в коктейль. Подожди.
Она подошла к Ховрину и крепко поцеловала его губы, надолго задержав поцелуй и еще пошерудив у него во рту языком. Со чмокающим звуком оторвалась, выдохнула:
– Все, отпустило! Сволочи какие! Все вы мужики сволочи! Это точно специальная химия. Слышала про такое: девчонкам часто в коктейли подливают наркотик, и те готовы на что угодно. Сейчас в клубах одна девчонка идет танцевать или пудрить носик, другая охраняет напитки. Вот так.
Потом добавила:
– Эта ваша взрослая жизнь – полное дерьмо! Неужели теперь всегда так будет?
– А как же! Каждый день тебя будут пытаться трахнуть, а потом ежедневно или через день тебя будут драть по полной – еще и надоест. Еще и будешь говорить: «Голова болит, сегодня не могу – устала…»
– Скорей бы!
Ховрин на это ничего не ответил.
После таких волнующих перепетий прямо посреди ночи Ховрин прямиком поехал к Алине. Алина уже спала, открыла дверь в короткой ночнушке, тепленькая, сонная:
– Давай, мойся по-быстрому и в постель! – зевая и стягивая через голову ночнушку, потом уже на ходу спуская трусики, отправилась в комнату. Крикнула оттуда: – Желтое полотенце бери!
С полчасика еще покувыркались с ней, потом с переплетенными ногами уснули. Оба проспали. Утром Алина носилась по квартире то в одних трусиках, то уже в одном лифчике, была в панике: «Меня точно уволят!» Впрочем, не уволили, а только пожурили. Пришла: один глаз накрашен, другой нет. Все понятно: дело молодое.
Катя вышла после занятий хмурая, с тенями под глазами, но подтянутая, бодрая, сходу сказала:
– Не хочу больше никогда слышать о том, что было вчера. Обещаешь? И еще обещай, что ты никому: ни своим друзьям и никому про это не расскажешь!
– Конечно, обещаю.
– Клянись!
– Клянусь! – Ховрин даже перекрестился.
– А иначе тебя гром разразит! И, кстати, тебе спасибо: ты меня спас от такой мерзости… Я только на утро поняла. Всё, забыли.
Гилинский уже днем, ближе к обеду, оторвался от бумаг, спросил у помощника:
– Кстати, а как там дела Марчелло? Что там у него? Получилось?
– Звонил. Ничего у него, говорит, не получилось, она оказалась совершенно несексуальная, возможно, даже лесбиянка. Начинающая, понятно. – Кревещук прятал глаза.
– А где он сам?
– Болеет, говорит, простудился. Шамкал как-то, голос действительно больной.
– Что-то странно: все вдруг разом заболели, а официально ведь эпидемию вроде не объявляли.
Гилинский втянул в себя носом воздух, пощупал подчелюстные железы, проглотил – вроде ничего не болело.
– Черт знает что! Лесбиянка, говорите? Это в семнадцать-то лет? Странно. Кстати, есть у нас из женского пола кто-нибудь с длинным языком и вообще по этой части?
– Все они, бабы, с длинными языками. И по этой части тоже. Многие хоть разок да пробовали, говорят, не так и плохо, – ляпнул Кревещук.
– Тьфу на тебя!
Марчелло в этом самое время на границе с Финляндией – в Торфяновке – проходил российский пограничный контроль. Улыбаться он не мог, разбитая губа опухла, левый глаз затек. Пограничница долго смотрела то в паспорт, то на него, потом спросила:
– Что с вами?
Подумала прозорливо: «Наверняка отфигачили за бабу. Не туда сунул член. И поделом кобелю». Ухмыльнулась почти незаметно.
– Авария. Ремень не пристегнул. Всегда пристегивайтесь, красавица, – прошамкал уныло Марчелло. – Машина – в хлам! Жалко. Новая «бэха». – Он по опыту знал: детали придают убедительности. Попытался улыбнуться, но не получилось. Сморщился.
«А ничего такой парнишка – я, пожалуй, с ним зажгла бы!» – подумала пограничница, почувствовав приятный жар между ног и ставя штамп в паспорт Марчелло. Проводила взглядом: «Ах, какая задница! Точно зажгла бы! Эх!»
Некий господин Н. как-то говорил про Марчелло так:
– Болт у Марчелло, конечно, офигенный. Где-нибудь на нудистском пляже он несомненно вызвал бы фурор и радостную панику среди любителей и знатоков. Имея такой член, уже точно нигде не пропадешь. Выкинь Марчелло в любом городе или селении мира, тут же при какой-нибудь бабе он и пригреется, поскольку имеет универсальное древнее средство общения. Ключ от всех дверей.
Так оно и получилось. Марчелло, пока летел из Хельсинки в Дюссельдорф, прямо в самолете познакомился со стюардессой – симпатичной веснушчатой дамочкой лет тридцати. Заперлись с ней в туалете, потом продолжили общение уже в Дюссельдорфе у нее в номере в отеле на территории аэропорта. Общались они на тарабарском наречии – международном английском, сопровождающимся вместо незнаемых слов жестами и звуками, которые издавали еще пещерные люди, и прекрасно понимали друг друга. Жест и мычание – праматерь всех языков. В результате стюардесса за свои деньги купила ему билет до Ниццы, а там прямо на набережной Круазетт Марчелло познакомился с симпатичной француженкой и ночевал уже у нее. Такой это был человек, и юную неопытную Катю винить было не в чем. Как известно, у женщин есть слабое место. И оно понятно где: едва прикрыто стрингами. Поэтому Марчелло, как справедливо считал господин Н., никогда и нигде не пропадет. Еще он считал, что с учетом всех войн, локальных конфликтов сложилось так, что женщины в России красивые, а мужчины – в большинстве своем безобразные, – так уж исторически получилось, а в Европе – наоборот: женщины в большинстве некрасивые, а мужчины – тоже так себе. Популяция вырождается. Поэтому метисы, типа Марчелло, приветствуются.
На следующий день, когда Ховрин подходил к школе, рядом с ним как-то слишком резко остановилась машина. Там находился совершенно лысый человек. Он него исходила явная угроза. Ховрин это почувствовал всеми своими внутренностями. Наверняка и кличка у этого типа была Лысый. Впрочем, так оно и было в действительности.
Когда Лысый с решительным видом начал вылезать из машины, Ховрин быстро шагнул вперед и изо всей силы ударил дверью по его выставленной наружу ноге. Раздался крик. Ховрин ударил еще раз – уже и с хрустом. Это, конечно, был перегиб, но сработало. А ведь, по сути – случайная травма. Лысый же испытал такую страшную боль, что потерял сознание.
Окончательно очнувшись в больнице, он увидел над собой суровое лицо Гарайса (Сереги или Андрея) и ужаснулся: сейчас точно сломают вторую ногу монтировкой. Гарайс посмотрел ему прямо в глубину мозга, процедил: «Чтобы мы тебя больше никогда не видели рядом с нашим человеком! Забудь о нем!» Лысый прикрыл глаза – показал, что очень даже хорошо все понял. И без того месяц придется ходить на костылях. Боялся, что гигант сейчас так и вдарит прямо по гипсу. Тот помедлил, но так и не вдарил. Потом, наконец, ушел, едва протиснулся в двери палаты. Но спустя минуту вернулся и все-таки рубанул по гипсу ребром ладони. Какая жуткая боль! Хотелось заплакать, позвать маму. Что за дела: все пиздят, кому не лень. И так всю жизнь…
У Ховрина от этой короткой стычки на пару дней сохранилось неприятное ощущение, как послевкусие от некачественной еды. Словно против него действительно выступала какая-то тайная организация, откуда постоянно появлялись какие-то демонические темные личности. Действительно, это выгладело как некая шахматная партия. Против этой тайной организации были: он сам (по фигурам – пусть слон – ну, не пешка же! – хотелось думать), Данилов (конечно же, ферзь!), Чебышев и Максимов (кони), братья Гарайсы (две белые ладьи), и еще некий подполковник ФСБ Гурьев, да еще Печора (пожалуй, тоже ферзи). Неплохо. И они были точно белые-хорошие. По крайней мере, Ховрину так казалось.
Черные-плохие в это самое время держали совет у Гилинского – в каминном зале его загородного особняка под Всеволожском. Большие окна выходили в унылый, еще безлистный сад и на высокую каменную ограду. По блекло-голубому небу рваными простынями до самого горизонта стелились облака. Докладывал Кревещук:
– Не все так просто. Мы тут навели кое-какие справки. Парнишка этот, считай, почти что чемпион города по какому-то там виду карате, и к тому же, как оказалось, протеже самого господина Печерского! Знаете такого? То-то! И он, Печерский, я так понял, генеральный спонсор этого спортсмена.
Гилинский недоумевал:
– И как это все понимать в целом? Печора-то тут каким боком оказался? С Вовой Гарцевым они вроде раньше никогда не контактировали. Что-то я такого не помню. И еще какой-то еще подполковник ФСБ по ходу дела проявился. Макарова напугал до смерти. Тот даже из страны свалил. Настоящая шарада.
Гилинский, как он сам считал, тоже играл за белых-хороших. В конце недели на его части доски фигур уже явно не хватало. Кревещук смотрел виновато: «Один умер, трое болеют». Гилинский это понял несколько по другому: опасность угрожает уже самому Королю, то есть лично ему, и снаряды начинают падать все ближе. Так в критической битве под Лейпцигом ядро попало в дерево рядом с Наполеоном и наповал убило его маршала. Это-то к чему вдруг вспомнилось? Хотелось закончить партию как-нибудь красиво, чтобы было не так обидно. Пусть даже вничью. Хотя бы вничью. Хотя бы не отдавать долг.