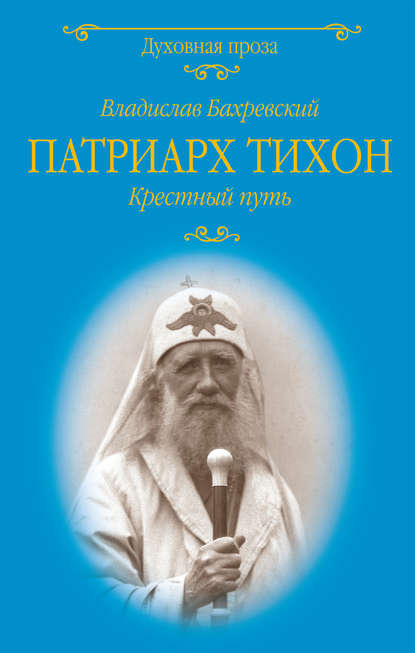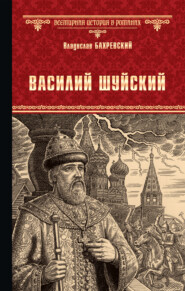По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Патриарх Тихон. Крестный путь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ваше святейшество, дерзну испросить благословения для вождя Добровольческой армии!.. Тайна благословения будет соблюдена…
Тихон опустил голову, но сказал твердо:
– Я заявил правительству о невмешательстве Церкви в политику, о высоте архипастырского долга… Славословить любовь и благословлять братоубийство? Так нельзя, совесть будет больна… Я думаю, вы поймете меня, князь.
– Простите меня, святейший!
– Я постараюсь иначе помочь страдающему народу. А все эти тайны, заговоры… Правда, сказанная шепотом, – разновидность лжи.
У Тихона щемило сердце, когда он вспоминал службу в Знаменском монастыре в декабре 1917-го. Это были первые патриаршии службы. Они возрождали Россию. Все верили в это. Епископ Тобольский Гермоген, подавая просфору, стал называть имена поминальных – за кого вынуть частицу.
– Николай, Александра, Алексей, Ольга…
– Это за бывшего государя, за его семейство? – спросил Тихон.
– Да, – сказал Гермоген. – Я отвезу эти частицы в Тобольск.
Царь, не желавший в царстве патриарха, получил-таки Кровь и Тело Христовы, преобразившиеся из хлеба и вина Таинством, совершенным по молитве святейшего. Но это оказалось благословением на Голгофу.
Тихон знал: вот пришла его очередь нести Крест, беспокоило одно – не чувствовал ни тяжести, ни смертного греха.
Большевики торжествовали: продержались у власти год. Это был воистину красный год. И Тихон решил сказать «народным комиссарам» самое для них ненавистное – правду.
Свое обращение к правительству в связи с первой годовщиной Октябрьской революции святейший зачитал на собрании Священного Синода и Высшего церковного совета.
– «Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции».
Тихон остановился, чтобы взять другой лист. Увидел, как нервно вздрагивает лежащая на столе рука митрополита Сергия (Страгородского). Было слышно прерывистое дыхание профессора Громогласова, он словно бы бежал из последних сил.
– «Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертию часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые пред вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже пред вами заведомо ни в чем не виноваты, а взяты лишь в качестве “заложников”…»
Тихон читал, не напрягая голоса, не подчеркивая трагических и особенно сильных абзацев, но ему казалось: слова бьют как по наковальне, воздух в зале звенит.
Наконец прозвучала последняя строка послания:
– «И от меча погибнете сами вы, взявшие меч».
Тихон складывал листы, вслушиваясь в обреченное безмолвие пастырей.
– Я думаю, этого не надо протоколировать, – сказал Сергий и, помявшись, добавил: – Это все-таки слишком жестоко… Подобным заявлением мы обрекаем себя на преследование…
– Картина страшная, но преувеличения нет нигде, – возразил Агафангел Ярославский. – Предлагаю одобрить обращение.
Встал мирянин Андрей Гаврилов, руки прижаты к телу, кисти повисли беспомощно: заяц перед дулом ружья.
– Правда – она и есть правда. Да ведь за правду-то они и убивают.
– И за крест убивают, – сказал Агафангел.
– И за крест убивают, – повторил Гаврилов, и слезы полились по его лицу.
Неловкую, затянувшуюся паузу прервал Тихон:
– Всю ответственность беру на себя. Обращение исходит от святейшего патриарха, значит, и все шишки ему.
– Вы еще шутите! – всплеснул руками Сергий.
– Побережем слезы для молитвы… Надеюсь, все понимают – обращение будет иметь смысл только при самом широком его распространении.
И тут поднялся Александр Дмитриевич Самарин:
– Существующее правительство пусть нам не нравится, но наш долг и святая обязанность поддерживать его.
Снова разразилась тишина. Недоуменная, враждебная.
Поднялся епископ Иоанникий. Он был вызван доложить Собору о хозяйственных делах, но не смолчал, не согласный с посланием патриарха:
– Ваше святейшество! Ваши высокопреосвященства! Не наше дело вмешиваться в политику. Заниматься агитацией духовным пастырям противопоказано, тем более возбуждать народ против правительства. Оно от Бога. Лучшего мы не стоим.
Молчание покрывало слова Иоанникия. Ни единой реплики – ни за, ни против. Обсуждение патриаршего послания не состоялось.
Уже после заседания Тихон сказал Иоанникию шутливым страшным шепотом:
– Тебя повесят!
– Повесят, и ладно! Будет, пожил на свете.
– А меня тоже повесят. Но другие!
Обращение было отправлено по адресу в день праздника, 25 октября. А до этого гектографы работали денно и нощно. Письмо патриарха, спрятанное в одежду, под стельку сапога или в виде оберточной бумаги, в поездах, в телегах, а больше пешим ходом разлеталось во все концы страны. Уже через несколько дней его читали в Добровольческой армии, и вскоре самые влиятельные газеты мира печатали его, чтобы показать рабочим своих стран истинное лицо народной власти в несчастной России.
А святейший тревожил господина председателя Совета народных комиссаров, стало быть, самого Ленина, еще одним посланием. Под Москвой, в Николо-Угрешском монастыре, красные рыцари ограбили и оскорбили митрополита Макария, старца за восемьдесят лет.
Ворвались в алтарь во время службы, в шапках, с револьверами в руках. Требовали капиталы – несгораемый шкаф, набитый золотом. Владыка отвечал, что живет на пенсию. Великан-чекист в кожаной куртке не постеснялся, ударил старика в лицо, заорал, приставил револьвер к груди. Но христианину смерть не страшна. И тогда начался кощунственный грабеж. Чекист схватил митру, напялил себе на голову, две драгоценные панагии – в карман, отодрал крестики со скуфеек, прихватил наперсный крест.
Тихон не понял, что вся эта гнусность – ответ народных комиссаров на его обращение.
Но мстительные власти припомнили святейшему и богородское стотысячное шествие. Протоиерея Богоявленского собора отца Константина Голубева, организатора патриаршего приезда, без суда и без следствия кинули в тюрьму. Продержали несколько суток. Может быть, ждали, когда дождь перестанет, и среди дня, не обращая внимания на толпу горожан, повели в лес. В этих краях сосновые боры, и отец Константин благодарил Иисуса Христа, что перед смертью поглядит на красоту Божью.
Смерть ему была уготована злая. Красноармейцы построились, поставили священника возле ямы, и вдруг один из них бросил винтовку:
– Он крестил меня. Не буду стрелять!
«Изменнику» скрутили руки, тоже поставили к яме. И опять незадача. Из толпы, стоявшей поодаль, прибежала женщина, заслонила батюшку собой. Расстреляли всех троих. И сразу начали закапывать. Отец Константин был ранен. Он поднимался из могилы, просил прикончить. Родная дочь его, ползая на коленях перед убийцами, молила о пощаде. Закопали. На толпу направили винтовки. И все глядели, как «дышит» могила.
Фамилия человека, устроившего казнь, – Бедов. В беде была Россия, но бесстрашные люди уже на следующий день приехали в Москву, в Лихов переулок, сообщили секретарю Собора Шеину о богородской трагедии.
Ночью к патриарху пришли депутаты Собора. Святейший уже спал, но поднялся. Митрополит Арсений сказал: