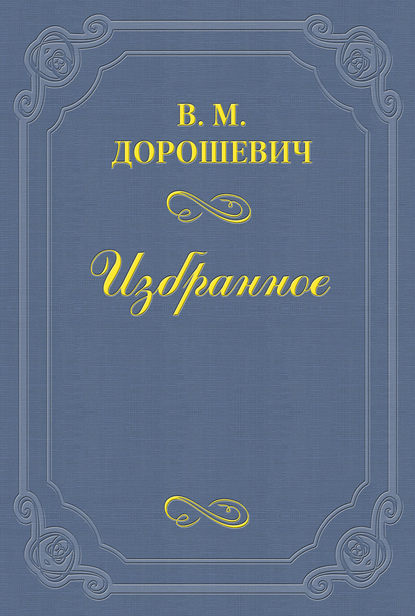По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вихрь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кому? Кого? Бегать по всему городу? Ездить по всей России? Бросаться на шею одним: «Я ваш!» Бить других: «Вы лжёте, – я не с вами!» Кому отвечать, когда все, кого я считаю своими друзьями, считают меня своим врагом? Кто будет меня слушать? Что сказать? Что, что я им скажу? Своё «верую»? Я его уж сказал. Видит Бог, есть ли в нём что-нибудь похожее и на всё это, на всё, что пишут, говорят, что слушают, чему верят.
– Что ж делать? Что ж делать?
– Одна из тех обид, на которые можно жаловаться только истории. Она разберёт и вынесет приговор. Единственная инстанция!
– После нашей смерти! Но теперь-то, теперь?
– Приникнуть к земле и лежать, и не дышать. Когда несётся ураган, остаётся одно: приникнуть к земле и лежать, и ждать, когда ураган пронесётся, и вновь засветит солнце. Тут часто в несколько минут окоченеешь, и счастлив, кто живым переждал ураган и уцелел: их согреет солнце.
В городе происходили заседания.
Пётр Петрович не получал на них приглашений.
Он слышал только, что Зеленцов с каждым собранием «развёртывается» всё шире, шире:
– Как он развёртывается! Властитель дум! – говорили, захлёбываясь. – Да-с, видно, было время человеку многое обдумать во время трёхмесячных якутских ночей!
– Русские – странный фрукт. Они лучше всего зреют на крайнем севере.
Но зато Пётр Петрович получил известие, которое его ошеломило.
В городе образовалось какое-то «отделение общества истиннорусских людей».
Под председательством выгнанного из сословия за растраты клиентских денег бывшего присяжного поверенного Чивикова.
И первое же заседание «общества» было посвящено ему, Кудрявцеву.
Была постановлена резолюция:
– Благодарить уважаемого П. П. Кудрявцева за его истинно-патриотический подвиг и горячий отпор крамольникам страждущей от измены земли русской.
Пётр Петрович нервно вздрагивал при каждом звонке:
– Они?
Но, вероятно, возымело действие сказанное им в клубе:
– Всякого мерзавца, который осмелится явиться ко мне с благодарностью, лакеям прикажу спустить с лестницы!
Благодарность постановили, но принести её не посмели.
Чувство гадливости, чисто физическое чувство тошноты охватывало Петра Петровича:
– Меня отталкивают одни, меня тащат к себе за рукава другие!
Он чувствовал себя в положении человека, которого мажут какой-то отвратительной зловонной грязью.
XV
– Это возмутительно! Это уж Бог знает что! – вбежала однажды в кабинет мужа взволнованная Анна Ивановна.
Она была в пальто и шляпке, только что вернулась от знакомых.
– Ты слышал, что вчера произошло у Плотниковых? Я Плотникова не люблю. Но это уж превосходит всякую меру.
– Что? Что?
– Представь себе. Вчера… У Плотниковых собрались. Был Зеленцов. Говорил свои знаменитые речи: «Значит!» «Значит!»
– Аня! Аня!
– Я их всех не люблю за тебя. Я их ненавижу! Ненавижу! Но это… Представь, к дому явилась толпа. Вот эти, вновь образованные. «Истинно русские»-то. Чёрная сотня. Осада! Настоящая осада! Бросали камни в окна. Кричали: «Выходи!» Ломились в двери. Гости должны были прождать до трёх часов ночи, пока явилась полиция. Вывели под конвоем. Плотникову попали камнем в голову. Он теперь лежит.
– Ужас! Возмутительно! Безобразие.
– Ты себе представить не можешь, что делается. Я взволнована. Не могу тебе рассказать подробно. Но ужас! Ужас! Один ужас! Я сейчас видела madame Плотникову. Она была, где я, – у Васильчиковых. Показывала письма, какие они получают ежедневно. Безграмотные. С угрозами смерти. Какие-то приговоры. «Мы, истиннорусские люди и патриоты своего отечества, постановили покончить с тобой и с твоими щенятами». И всё это безграмотно, каракулями. Страшно! Какой-то тьмой веет. Веришь ли, самое ужасное в этих письмах, это – их безграмотность. Я не могу видеть этой буквы «ять», которая по ним прыгает, – словно удар дубиной, – куда ни попадя. Madame Плотникова говорит: «С тех самых пор, как муж тогда в собрании сразился с Петром Петровичем, мы не знаем секунды спокойной»…
Пётр Петрович вскочил:
– Я еду к полицмейстеру. Мне не хотелось бы обращаться к губернатору, но если придётся, я поеду и к нему. Я поеду куда угодно…
– Да ты же здесь при чём?
– Ах, матушка! Не желаю же я, чтобы, рассказывая грязные, отвратительные, ужасные истории, в них упоминали имя Кудрявцева. Только этого ещё недоставало. Только этого!
И Пётр Петрович поехал к полицмейстеру.
Полицмейстер принял Петра Петровича, «в виду теперешних отношений губернатора», немедленно, стараясь быть как можно «корректнее»…
Он любил говорить:
– В нашем деле корректность – это всё.
Полицмейстер «самым корректным образом» указал Петру Петровичу на стул и пододвинул ему серебряный ящик с папиросами:
– Дюбек выше среднего. Не угодно ли?
XVI
– Благодарю вас! – Пётр Петрович мягко отодвинул серебряный ящик с папиросами. – Я приехал к вам по чрезвычайно неприятному делу. Вам, конечно, известно, что вчера чёрная сотня…
Полицмейстер сделал безумно удивлённое лицо:
– Виноват-с! Как вы сказали?
– Чёрная сотня!
– Не слыхал-с!
– Что ж делать? Что ж делать?
– Одна из тех обид, на которые можно жаловаться только истории. Она разберёт и вынесет приговор. Единственная инстанция!
– После нашей смерти! Но теперь-то, теперь?
– Приникнуть к земле и лежать, и не дышать. Когда несётся ураган, остаётся одно: приникнуть к земле и лежать, и ждать, когда ураган пронесётся, и вновь засветит солнце. Тут часто в несколько минут окоченеешь, и счастлив, кто живым переждал ураган и уцелел: их согреет солнце.
В городе происходили заседания.
Пётр Петрович не получал на них приглашений.
Он слышал только, что Зеленцов с каждым собранием «развёртывается» всё шире, шире:
– Как он развёртывается! Властитель дум! – говорили, захлёбываясь. – Да-с, видно, было время человеку многое обдумать во время трёхмесячных якутских ночей!
– Русские – странный фрукт. Они лучше всего зреют на крайнем севере.
Но зато Пётр Петрович получил известие, которое его ошеломило.
В городе образовалось какое-то «отделение общества истиннорусских людей».
Под председательством выгнанного из сословия за растраты клиентских денег бывшего присяжного поверенного Чивикова.
И первое же заседание «общества» было посвящено ему, Кудрявцеву.
Была постановлена резолюция:
– Благодарить уважаемого П. П. Кудрявцева за его истинно-патриотический подвиг и горячий отпор крамольникам страждущей от измены земли русской.
Пётр Петрович нервно вздрагивал при каждом звонке:
– Они?
Но, вероятно, возымело действие сказанное им в клубе:
– Всякого мерзавца, который осмелится явиться ко мне с благодарностью, лакеям прикажу спустить с лестницы!
Благодарность постановили, но принести её не посмели.
Чувство гадливости, чисто физическое чувство тошноты охватывало Петра Петровича:
– Меня отталкивают одни, меня тащат к себе за рукава другие!
Он чувствовал себя в положении человека, которого мажут какой-то отвратительной зловонной грязью.
XV
– Это возмутительно! Это уж Бог знает что! – вбежала однажды в кабинет мужа взволнованная Анна Ивановна.
Она была в пальто и шляпке, только что вернулась от знакомых.
– Ты слышал, что вчера произошло у Плотниковых? Я Плотникова не люблю. Но это уж превосходит всякую меру.
– Что? Что?
– Представь себе. Вчера… У Плотниковых собрались. Был Зеленцов. Говорил свои знаменитые речи: «Значит!» «Значит!»
– Аня! Аня!
– Я их всех не люблю за тебя. Я их ненавижу! Ненавижу! Но это… Представь, к дому явилась толпа. Вот эти, вновь образованные. «Истинно русские»-то. Чёрная сотня. Осада! Настоящая осада! Бросали камни в окна. Кричали: «Выходи!» Ломились в двери. Гости должны были прождать до трёх часов ночи, пока явилась полиция. Вывели под конвоем. Плотникову попали камнем в голову. Он теперь лежит.
– Ужас! Возмутительно! Безобразие.
– Ты себе представить не можешь, что делается. Я взволнована. Не могу тебе рассказать подробно. Но ужас! Ужас! Один ужас! Я сейчас видела madame Плотникову. Она была, где я, – у Васильчиковых. Показывала письма, какие они получают ежедневно. Безграмотные. С угрозами смерти. Какие-то приговоры. «Мы, истиннорусские люди и патриоты своего отечества, постановили покончить с тобой и с твоими щенятами». И всё это безграмотно, каракулями. Страшно! Какой-то тьмой веет. Веришь ли, самое ужасное в этих письмах, это – их безграмотность. Я не могу видеть этой буквы «ять», которая по ним прыгает, – словно удар дубиной, – куда ни попадя. Madame Плотникова говорит: «С тех самых пор, как муж тогда в собрании сразился с Петром Петровичем, мы не знаем секунды спокойной»…
Пётр Петрович вскочил:
– Я еду к полицмейстеру. Мне не хотелось бы обращаться к губернатору, но если придётся, я поеду и к нему. Я поеду куда угодно…
– Да ты же здесь при чём?
– Ах, матушка! Не желаю же я, чтобы, рассказывая грязные, отвратительные, ужасные истории, в них упоминали имя Кудрявцева. Только этого ещё недоставало. Только этого!
И Пётр Петрович поехал к полицмейстеру.
Полицмейстер принял Петра Петровича, «в виду теперешних отношений губернатора», немедленно, стараясь быть как можно «корректнее»…
Он любил говорить:
– В нашем деле корректность – это всё.
Полицмейстер «самым корректным образом» указал Петру Петровичу на стул и пододвинул ему серебряный ящик с папиросами:
– Дюбек выше среднего. Не угодно ли?
XVI
– Благодарю вас! – Пётр Петрович мягко отодвинул серебряный ящик с папиросами. – Я приехал к вам по чрезвычайно неприятному делу. Вам, конечно, известно, что вчера чёрная сотня…
Полицмейстер сделал безумно удивлённое лицо:
– Виноват-с! Как вы сказали?
– Чёрная сотня!
– Не слыхал-с!