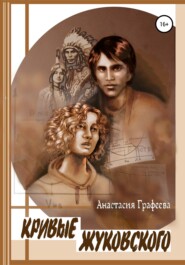По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гостьи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но она безразлично пожала плечами. Типа: «Ну нет дела, так нет».
Будто бы и разговор иссяк, но одна затяжка, и говорит, как не мне, а просто в окно:
– Ты и не должен быть как он. Ты же не слепок. Ты сублимация всех тех, кто был до тебя, просто из них твои папа и мама оказались крайними. И из этих двоих я знала только твоего отца. А представляешь, сколько их было от появления человека на земле и до тебя? Отцы отцов, матери матерей… Ты похож на них на всех, и не похож ни на кого в отдельности. Так что глупо думать, что ты можешь быть чьей-то копией. Конечно, ты сам по себе.
Ничего не изменилось в ее лице, просто рот перестал двигаться, взгляд – так же в окно…
– Он тоже так думал? – зло спросил я, сам того не ожидая. Что я сам по себе – добавил уже про себя.
Я не на Алексея злюсь, бросил так бросил, наверное, это просто защитная реакция. Под очарование этой женщины подпадать никак не хотел. Конечно, не так уж она очаровательна, но этот голос, который почти что шепот, который будто обволакивает, затягивает. Так говорят, когда устали, с хрипотцой, через силу. Так иногда пытается говорить мама, когда приходит с работы, и хочет продемонстрировать мне свою усталость, чтобы я сделал какую-то работу по дому за нее. Например, помыл посуду или пропылесосил. Но эта женщина будто всегда так говорила, она казалась искренней.
– Не знаю, – спокойно ответила она, – он много, что думал, не все говорил. Хотя если уж начинал…
– А вы просто слушали? – насмешливо и опять же зло, спросил я. Но знал, что могу себе позволить эту насмешку, только пока она не смотрит на меня.
– Иногда слушала, иногда нет… Знаешь ли, старики бывают болтливы…
Старики?
Женя улыбалась. Опять же не мне. Странная такая улыбка – напряженная, не веселая совсем, губы сжаты, только что по форме улыбки растянуты.
– Мне уходить нужно, – сказал я, продолжая с интересом наблюдать за ее лицом.
Она перестала улыбаться. Вспомнила, наконец, что я здесь. Ужасно неприличная женщина. Что-то есть общее у них с утреней старушкой, эта тоже будто немного не в себе.
–Да, – просто ответила она.
И продолжила сидеть. Положила в пепельницу прогоревшую впустую сигарету и следом закурила следующую. Я, конечно, не Алексей, но не идет этой квартирке (моей квартирке) этот запашок.
Она-то в окно смотрит, небось, на ржавые качели, а мне что делать? Я достал телефон. Попробовал почитать, открыл книгу, но смысл слов до меня не доходил. Может Алиске написать? Нет, нет, не соображу сейчас, что написать. Да и только начни, вопросами засыплет, а что мне ей сказать? Пришла какая-то странная женщина, уже вторая, кстати, за сегодня, сидит, курит, не уходит. Глазами-то в телефоне, а сам себя ругаю, как могу. Уж эту-то точно нужно прогнать, это не несчастная старушка! Когда ты отвердеешь, Паша?
Женя тем временем достала из сумки желтую тетрадь. Открыла на середине и погрузилась в чтение. Я пару раз мельком взглянул на нее. Похоже, что ее вообще не смущает абсурдность всей ситуации.
– Я за кофе, ты будешь?
Я машинально покачал головой – «нет, не буду», а сам весь сжался внутри. И она уже с кухни:
– А машина где?
– Кончилась, – шепотом сказал я. То есть, для нее – я промолчал. Вернулась она со стаканом воды в руке, села на прежнее место.
Так и сидели, потом она взглянула на наручные часы. Убрала тетрадь обратно в сумку и встала.
– Уходите? – смущаясь, спросил я, смотря на нее снизу вверх.
Улыбнулась мне, но так – только из приличия и только губами. А потом ладонью коснулась моей щеки. Даже не коснулась, а будто бы хотела, но вовремя одумалась.
И не прощаясь, ушла. Я не провожал, так и остался сидеть на диване. Долго сидел, задумчивый, смущенный. Вот бы разозлиться еще раз, думал я. Тогда бы я позвонил Роману, потребовал от него объяснений или немедленного визита. Позвонил бы маме, обвинил бы ее в ужасном выборе мужчины для создания совместного ребенка, и Алиске… На Алиску думаю гнева бы уже не хватило, ей достались бы только жалобы, стенания.
В этот день я уже не выходил из квартиры. Доел купленную лапшу, допил кофе, смотрел с телефона кино, футбол, опять кино. Женя не шла из головы. Зачем мне «Женя»? Куда более подобающе бы было «Евгения как-нибудь там». Моя мама никогда бы не позволила себе оказаться в такой нелепой ситуации.
Ага, друг она ему, как же. Что я похож на маленького мальчика, и вещей таких не понимаю? Друг…
…В девяностые переехал из Казахстана в Россию.
Втайне от Ани я ласкал малыша. Раскрывал перед ним анатомический атлас, он тыкал в картинки пальчиком, я называл, рассказывал, а сам им любовался. Любил сидеть с ним на полу, так чтобы нависать над ним сзади, чтобы и картинку видеть, и в белобрысый затылочек целовать.
Ласкала ли его Аня? Только если тайком, так же как я. Но она, моя до ужаса чистоплотная Аня, позволяла ему выкидывать из шкафа одежду, доставать из полок кастрюли, да и все, до чего он мог дотянуться, раскидывать это по полу. Однажды, даже мужественно смотрела, как он высыпает на ковер драгоценную крупу, возится в ней руками. Позволяла, не бранила. А еще кормила, гуляла, укладывала спать, уже не говоря о постоянной стирке… Однажды Рома назвал ее мамой. Мы сделали вид, что не услышали, не поняли, не разобрали. Спрятали друг от друга глаза.
Я спрашивал себя – а возможно ли вообще любить ребенка, который на тебя не похож?
Одна медсестра в поликлинике прознала, что у меня ребенок, принесла на работу пакет с игрушками. Высыпали дома на полу содержимое пакета, и детей стало трое. Мы строили башенки из кубиков, катали грузовичок, укладывали спать пластмассового козленочка, не переставая крутилась юла…
Прихожу однажды домой, а дома лишь Аня. На четвереньках моет пол, свисающие волосы закрывают ее лицо. «Алла Сергеевна приходила. Садик дали», – говорит она.
Забрала, значит.
Хорошо, что у нас была кладовка, мы могли спрятать в неё игрушки. Но это дурацкое лимонное дерево стояло в своем углу почти голое, с оборванными листочками, и в маленькой комнате было почти невозможно не смотреть на него. Думаю, Аня тоже бы с удовольствием отнесла его на помойку. Но мы оба терпели, молчали. Дерево продолжало стоять…
Решиться уехать стало легко. Просто собрались и поехали. Комнату купила у нас соседка. Теперь у нее была полноценная квартира, а у нас немного денег с собой. За цену не торговались, других желающих не искали, ни с кем не советовались, не прощались. Почему-то торопились. У Ани были какие-то родственники в Липецке, туда и поехали. Ехать-то было все равно куда.
Уже в поезде, через сутки езды, я обнял Аню. Она прижалась лицо к моей груди, по-детски обхватила меня руками. «Она перестанет крутиться», – думал я, обращаясь к Ане, – «Та юла, когда-нибудь перестанет».
Решили родственников долго не обременять. Я спросил Аню: «Комнату купим?». Но с неё было достаточно общежитий, и она настояла: «Дом». Денег было очень, очень мало. Анины родственники посоветовали ехать в деревню. Даже указали конкретную, у них там были какие-то знакомые. Домов продавалось много. Большинство стояли заколоченными, и нужно было выспрашивать у соседей, как связаться с хозяевами.
Один такой дом мы приглядели. Аня говорит: «Огород большой». А я смотрю на покосившийся деревянный нужник во дворе и вспоминаю детство.
Когда по нашей просьбе в деревню приехала хозяйка дома, отворила его, и мы вошли внутрь, детства стало больше. Оно запахами обступило меня. Я обернулся на хозяйку – с виду приличная женщина. Она поняла, говорит: «Папа мой здесь жил, я его в город забрала».
Дом был маленький, грязный, противный, по цене доступный. Отдали деньги, перевезли вещи. Я подремонтировал что смог, используя, то что нашел здесь же, в пределах завалившегося забора. Аня драила, чистила, скоблила. Настелила скатёрок, раскатала палас. Но запах предыдущих хозяев не хотел выветриваться, в нем и жили.
Ты ли это, моя чистоплотная до брезгливости, Аня? Ты загадывала дом, огород. У тебя все есть. Только корова нам больше не нужна.
Нам в деревне обрадовались. Я стал долгожданным и единственном врачом в местном медпункте. А еще медбратом, фельдшером, душеприказчиком. Днем сидел в маленьком кабинете при здании местной администрации, а по вечерам меня находили дома пациенты, их родственники, соседи. Знал всех жителей в лицо, и во все прочие части тела, у кого, где болело.
Я часто там думал о потолке. Просто думал, без лишнего философствования, думал – «Вот он мой потолок».
6
На следующее утро в половине восьмого разбудил меня стук в дверь. Проснулся, лежу, не шевелюсь. Понятно, что не Роман приехал собственной персоной. Старушка пришла. У нее же ключ есть, почему им не открывает? Значит, понимает, что я ей не рад, что не нужна она мне, и все равно пришла! Отвернулся к стенке. Тишина – звонок. Тишина – звонок. Бли-ин. Встал, пошел к двери. Ну не могу я так – стоит там со своим несчастным видом, небось, и носочки мои чистые принесла. Да не из-за них же она шла такую рань сюда, ей деньги нужны. Ну, Пашка, мой друг мягкотелый, поплатишься ты своими денежками за отсутствие характера.
И вот моя утренняя гостья уже убирает пачки от лапши, натирает полы, протирает окна.
– Да не надо, – начал, было я, про окна, – вы же вчера мыли.
А она мне ни слова и продолжает.
Я вывалил все содержимое своего рюкзака на неприбранный после сна диван. Положил в него обратно лишь портмоне, телефон и документы.