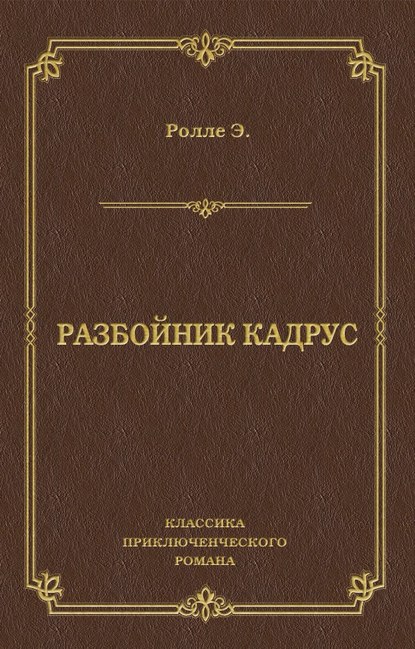По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разбойник Кадрус
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шардон продолжал:
– Но освободители не обнаружили себя, они остались прекрасными незнакомцами. Весьма естественно, сердце и воображение простодушных девиц работали. Всякая комедия должна кончиться браком, они и захотели разыграть последний акт. А мы сами доставили им материалы для этой пьесы.
– Да! – с унынием прошептал Гильбоа.
– Что же заключаете вы из всего этого? – спросил Шардон.
– Я? Ничего, – печально ответил барон.
– А я заключаю кое-что, – продолжал управляющий. – Вот вы увидите! Два наших нищих сообщника были наказаны, не так ли?
– Несчастные были зарезаны.
– Да! Они были зарезаны, но кем и как? Освободителями! Но так убивают Кроты, то есть, у них на шее была рана, служащая как бы печатью свирепого атамана этой шайки.
Барон вдруг вскочил, он понял все.
– Кадрус! – вскричал он. – Это он! Это начальники страшной шайки, насмехающейся над всем. Голова их оценена! Я могу отомстить!
В первую минуту Гильбоа, не подумав хорошенько, подошел к бюро и тотчас хотел написать донос Фуше. Управитель остановил его.
– Вы погубите себя, – сказал он. – Поймите, что против доказательств в их личности, которую они доставили министру полиции, вы можете представить только предположения. Доказательств у нас нет. А люди эти, к несчастью, имеют доказательства против нас. Тогда все скажут, что вы из личных интересов стараетесь освободиться от опасного соперника. Фуше этому поверит и, может быть, пошлет вас в ссылку… если не отрубит голову на Гревской площади.
– Ах! – прошептал перепуганный барон, падая в кресло и закрывая голову обеими руками, как будто хотел удержать ее на плечах. – Что же делать?
– А может быть, есть способ, – ответил Шардон. – Слушайте же меня внимательно. Голова ваша не будет отрублена, надо ее защитить. Слушайте же! Такие люди, как мнимые кавалер де Каза-Веккиа и маркиз де Фоконьяк, слишком лукавы, чтобы мы могли пытаться бороться с ними. Если бы мы имели дело с другими людьми, тогда анонимное письмо скоро положило бы всему конец. Но теперь это невозможно. Кадрус и его помощник узнают, что удар нанесен нами. На другой день после их ареста будем арестованы и мы, и они без труда докажут, что мы действовали из мести. Если бы мы заставили одного из их бывших товарищей по тюрьме выдать их – я вам говорил уже, что я узнаю в этом Фоконьяке каторжника, убежавшего через несколько дней после того, как я поступил в тюрьму, – если, говорю я, их взялся бы продать кто-нибудь из их бывших товарищей, тогда все устроилось бы к лучшему. Начальники Кротов не подозревали бы, откуда обрушился удар. Удостоверившись в личности обоих разбойников, Фуше не поверил бы их показаниям против нас. Вы раскричались бы, что это клевета, ложь!..
– Нельзя ли в таком случае, – намекнул Гильбоа, которому надежда придала опять благодушный вид, – не отпираясь от перстня и письма, которые компрометируют все окрестное дворянство, растолковать министру полиции, что этот мнимый заговор был поддерживаем мной только для того, чтобы он мог лучше узнать друзей и врагов императора?
– Может быть, – ответил управитель. – Во всяком случае, средство это следует употребить за несколько дней до ареста разбойников.
– Но надо еще найти бывшего товарища Фоконьяка, – сказал барон.
– Я, кажется, знаю одного, – сказал Шардон, стараясь припомнить. – Кажется, его звали Леблан. Волосы и борода у него были такие… как у альбиноса. Это был сильный молодчик, довольно ученый, даже слишком ученый, вот отчего он и попал на содержание к королю. Что сделалось с этим человеком, я не знаю, только думаю, что срок его уже закончился. Где его найти? Не позволите ли вы мне съездить в Париж? Там я осведомлюсь. С ловкостью, к которой, конечно, вы признаете меня способным, я, вероятно, успею.
– Да, именно! – с живостью сказал барон, отпирая бюро и вынимая несколько свертков с деньгами, которые передал управителю. – Да, поезжай. Сделай возможное и невозможное. Сыпь деньги пригоршнями и не жалей ничего.
Через несколько минут Шардон скакал в Париж, а Гильбоа, несколько успокоившись, говорил себе: «А, кавалер! А, маркиз! Вы держите меня в руках, но и я вас держу… Кто из нас выиграет?»
Глава XXXIV
Кадрус между двумя женщинами
В ту минуту когда Кадрус и Фоконьяк вернулись домой от барона де Гильбоа, слуга подал кавалеру де Каза-Веккиа письмо.
– От кого? – спросил кавалер слугу.
– Какая-то деревенская баба принесла.
– Она не сказала от кого?
– Она сказала, что это от дамы, которая гуляет одна в лесу с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах, а на правой руке у нее простой стеклянный перстень, не стоящий и двух су, среди других, стоящих тысячи.
Кавалер тотчас узнал, от кого письмо. Он поспешно пошел в свою комнату. Чего могла от него хотеть герцогиня де Бланжини?
Письмо было без подписи.
«Особа, которой кавалер де Каза-Веккиа подарил перстень, лежавший на Гробе Господнем, убедительно просит его прийти к ней как можно скорее. Она будет ожидать его все равно в каком бы то ни было лесу».
Выделенные слова указывали на прошлое.
– Чего хочет от меня принцесса? – спрашивал себя Кадрус. – Вероятно, женская прихоть! Повинуясь порыву гордости, я уже сделал ошибку, показав ей лицо атамана Кротов. Это почти измена моим подчиненным, и это хвастовство может способствовать их погибели. Не будет ли неблагоразумно уступить подобной прихоти?
– Нет-нет! – сказал Фоконьяк, который, как человек ловкий и желающий все знать, не пропустил ни одного слова из монолога своего друга. – Нет, любезнейший, неблагоразумно будет не уступить прихоти этой женщины. Поверь мне, нарядись, сострой себе такое лицо, как у влюбленного, отправляющегося на первое свидание, и скачи в замок…
– Ты знаешь, – ответил Кадрус, – лицемерие для меня невозможно, я люблю другую.
– Тем более причины, – с насмешкой сказал гасконец. – Ты лучше сумеешь разыграть свою роль. Ах, будь я на твоем месте! – воскликнул волокита, который, видя нерешимость своего атамана, сунул ему в руки хлыст и, смеясь, подтолкнул. к двери.
Почти против воли Жорж поехал в замок Бельфонтен, где его с нетерпением ждала герцогиня де Бланжини.
Из окна будуара она подстерегала приезд кавалера, и сердце ее билось. Она не могла обманывать себя – она любила! Да, она любила этого человека… этого Кадруса! Всякая любовь в женщине с таким пылким темпераментом, как у герцогини, которая еще не любила, не могла быть любовью обыкновенной, с ее известной медлительностью, с ее предсказуемым концом. Нет, это была любовь, идущая прямо и твердо к цели, без ложного стыда, любовь горячая, как корсиканская кровь, которая текла в ее жилах.
Когда ревность уязвит сердце подобной женщины, тогда эта женщина не отступит ни перед чем. Принцесса любила Жоржа и писала ему, прося свидания. Правда, сердце ее сильно билось, когда молодой человек вошел к ней, но она холодно ответила на его поклон, указала ему на стул и спросила вдруг несколько дрожащим голосом:
– Мне сказали, что вы женитесь. Правда это?
– Да, – ответил Жорж, поклонившись, – вас не обманули.
– На девице де Леллиоль, племяннице барона де Гильбоа?
Молодой человек снова поклонился в знак подтверждения.
– Говорят, что девица де Леллиоль чрезвычайно богата, – произнесла герцогиня с иронией. – Миллионщица, имеющая дядю богача, от которого, конечно, получит наследство! Партия хорошая.
Горький тон, которым были произнесены последние слова, заставил задрожать Кадруса, который посмотрел на герцогиню с удивлением. Та увидела, что удар попал метко, и поспешила нанести другой.
– Вас прельщает богатство? – спросила, она. – Вы любите деньги?
– О, герцогиня! – ответил Жорж, стыдясь, что его брак считают гнусной спекуляцией. – Чем я заслужил такое мнение? Вы знаете, кто я, неужели вы считаете меня способным к подобной гнусности?
В женщине всегда есть кошачьи ухватки. Герцогиня точно знала, что она оскорбит того, кому она готова была отдать все, задав такой вопрос, но между тем все-таки спросила, любит ли он деньги. Она страдала и хотела, чтобы Жорж также страдал. Кажется, в женской любви всегда есть немножко ненависти.
– Мне кажется, вы говорили мне, что желаете быть любимым для себя самого и что…
Она остановилась. Такого человека, как атаман Кротов, нельзя было оскорблять безнаказанно.
– Герцогиня, – сказал он гордым тоном, – у вас в руках столько средств отомстить мне, если я мог чем-нибудь вас прогневить, что совершенно бесполезно призывать меня, для того чтобы бросать в лицо подобное оскорбление.