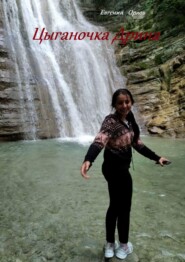По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Период первый. Детство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дорогая сестра и племянник, этими шишками приглашаем Вас к нам на свадьбу.
Мама взяла шишки. Одну дала мне и поблагодарила:
– Спасибо за приглашение. На свадьбу мы с Женей обязательно придем, посмотреть на тебя в фате и поздравить вас, но мы с народом будем.
Мама немножко запнулась и стала объяснять не торжественным голосом, а так, как обычно разговаривала с подругой:
– Дружкой я на твоей свадьбе не могу быть, – она кивнула на меня и пояснила. – Сами видите, у меня теперь семья своя есть. Гостей на свадьбу сажают тех, которые дарить будут. Мы с Женей с родителями живем, своего хозяйства нет. Дарить нам нечего.
Тут в разговор вмешался дедушка. Он наверно беспокоился из-за нарушения процедуры приглашения и строгим голосом прервал мамины объяснения:
– Ещё раз спасибо, особенно за то, что пригласили всех. На свадьбу они, конечно, придут, но за столом гулять не будут. Скажи своим, пусть к званным их не присчитывают, – пояснил дедушка тете Тоне.
После приглашения меня почему-то донимала мысль, не придет ли к ним на свадьбу пьяным Минька Шомин и не испортит ли людям веселье.
Пьяным он бывал не часто. Но когда такое случалось, соседки заранее оповещали друг дружку о его приближении. Закрывали окна ставнями для защиты стёкол, запирали на засовы калитки и двери, сами заходили в хату или находили занятие за сараем, за высоким тыном – лишь бы не показаться на глаза забияке.
Но даже такие меры не всем и не всегда помогали. Он мог остановиться у какого-нибудь двора, распаляя себя в кураже, облаять хозяина или кого из родственников семьи – и тут же требовать его к себе на расправу. Даже если дома никого не было, мог самочинно зайти во двор, перебить сохнущие на кольях крынки и другую утварь. Мог сломать тачку или возок, свалить изгородь или просто бил кулаками, ногами и головой в саманную стену сарая или дома, выкрикивая непонятные угрозы и рыча по-звериному. После очередного такого похождения его «выходки» и судьбу долго ещё обсуждали дома и на улице.
После долгих раздумий я не выдержал и задал дедушке вопрос, на который вполне резонно мог получить ответ: «Ещё маленький и нечего совать нос во взрослые дела».
– Дедушка, а дядя Шомин не напьется на свадьбе?
Но дедушка ответил мне вполне серьезно:
– Не бойся. Миньку не приглашали. Да и сам он не дурак, хоть и буйный, но жизнь понимает, и портить людям такое святое дело как свадьба он не станет.
Дедушка замолчал, задумался. Насыпал на ладонь новую порцию нюхательного табака. Взял оттуда щепотку, глубоко вдохнул его одной ноздрей, затем другой, посидел сморщившись, два раза громко чихнул, высморкался и стал объяснять мне, как взрослому:
– Минька на жизнь обижен. К людям он уважительный, хоть гоняет всех по-пьяни и дерётся. На свою долю трезвый он не обижается, а пьяный сдержаться не может.
Дед положил мне руку на голову, посмотрел в глаза, как бы прикидывая, понимаю ли я его.
Жизнь Миньки была на удивление тяжелой, даже на фоне повсеместных тяжестей того периода. Свою мать, женщину ловкую и работящую, он похоронил ещё до войны. Тогда людей из Бедного гоняли на станцию Журавку копать желтую глину для охрового завода. Там её, в карьере землёй завалило, только на второй день откопали. Из детей Минька был старшим. Своим пятерым сестрам и брату стал и мамкой, и папкой, потому что его отец Павло, к жизни был мало приспособлен. Всё суетился, спешил, затевал, что-то большое, но ничего у него не получалось. Даже по хозяйству в мужской работе ему жена помогала.
А Минька в мать пошел, потому после её смерти хозяйство вёл исправно. Тогда у бедных дети мёрли как мухи, а их семья хоть и бедно жила, но дети крепкие росли. Перед самой войной на их головы новая беда свалилась – сгорела хата. Еле успели вынести постель, и кое-что из одежды. Хата, рубленная была, не саманная. Потому сгорела почти полностью: две стены наружных осталось, да печь с трубой торчала посредине. Но они успели, до того, как в село немцы пришли, себе землянку отстроить под косогором, через дорогу от их подворья.
При немцах жить страшно было, но хоть какой-то порядок всё же соблюдался. В Гражданскую людям страшнее жилось: всякий, кто приходил с оружием, творил с жителями всё, что ему заблагорассудиться.
Полицаев не опасались. Они люди подневольные, назначенные, но свои, понимали жизнь сельскую, и обхождение имели нормальное с народом. А двоих полицаев – Тихона с Платоном – осуждали. Они в полицаи сами записались, да и слава за ними была недобрая. Они и в коллективизацию людям крови много попортили: и хлеб отбирать с отрядами по дворам ездили, а когда людей раскулачивали, много себе добра забирали из чужого хозяйства.
От румын и итальянцев тоже досталось, пока они в селе стояли. Фронт рядом, по Дону проходил. Хорошего от фронта никто не ждет. Вот они и лютовали: то ли со страху, то ли от злости, а, может, люди они такие плохие, кто их теперь разберёт.
Оккупация много горя принесла. Даже кто побогаче жил, и у тех за это время всё хозяйство порушили: то яйца требуют, то кур режут, то гусей, а то свинью завалят или бычка. У бабы Насти даже корову дойную зарезали.
Когда немцы в селе были, так люди на своих обидчиков приспособились им жаловаться. Немцы иногда заступались. Всё, конечно, не удавалось вернуть, но хоть пол туши хозяевам доставалось. А тетка Мотря через немцев своего поросенка даже у полицая Тихона забрать сумела.
Тихон особо свирепым был. Выдавал своих и не стеснялся даже. Из-за него двоих партийных забрали. А кого не выдал, так ходил по дворам грозил заявить, что их сын или муж в Красной армии. За молчание брал самогонку, еду и из одежды что получше. К тетке Мотре тоже придрался и поросенка забрал.
Тут, к счастью, два немца по улице шли – так она Тихона за руку и к немцам. Кричит, плачет, доказывает, а те понять ничего не могут, один спрашивает:
– Halt! Was ist das? Was ist das?
А тетка Мотря повернулась к Тихону и орет ему:
– Слышал аспид, шо твои хозяева сказали: «Хай отдаст, отдаст», давай сюда, – отняла поросенка и домой отнесла.
Немцы посмеялись, посмеялись и пошли дальше – они наверно так ничего и не поняли.
Но от другой напасти искать защиты было негде. Много девок и молодых женщин пострадало от чужих солдат. Немцы, особенно из тех, которых на фронт гнали, не упускали случая попользоваться теми из женщин, кто помоложе да покрасивее.
Новые власти требовали, чтобы взрослые продолжали ходить на работу. Все три колхоза села объединили в один и назначили председателем завхоза Степановича. Учет вести поставили одноногого счетовода из колхоза «Имени 17-го партсъезда» Николая Кондратьевича.
Степанович и при наших был любителем выпить, а на новой должности ни разу трезвым до вечера не дохаживал. Народом на работах десятники да звеньевые командовали. Но и они не слишком старались. В поле выезжали не с рассветом, а когда солнышко уже землю прогреет, и роса спадет. Если кому надо было дома остаться – разрешали. Коров не успели эвакуировать только в колхозе «Шевченко». Поэтому восемнадцать доярок и фуражиров из трех колхозов, толпились на одном скотном дворе, ухаживая за 53 коровами.
Николай Кондратьевич нахваливал нового председателя, рассказывая ему, как его уважает народ и благодарит за отличное питание и заботу. Довольный председатель безоговорочно подписывал ведомости на питание, выписывал нуждающимся, в счет оплаты трудодней, крупы, овощей и мясо. Овец на питание, в кладовую и по требованию немецкой комендатуры забивали почти ежедневно.
Когда пришло время уборки урожая, бухгалтерия всё намолоченное за день зерно начисляла колхозникам на трудодни. На следующий день его разбирали по домам и люди, наученные горьким опытом прошлых лет, сразу старались надежно припрятать полученное.
В бухгалтерии дневники намолота за прошлые дни переписывали, уменьшая количество оприходованного урожая, а ведомости за прошлые дни у кладовщиков забирали и уничтожали, оставляя только те ведомости, по которым хлеб получали в последние два дня.
Николай Кондратьевич запугивал своих юных помощниц, чтобы они и во сне и маме родной не рассказывали, чем им приходится заниматься в бухгалтерии. Грозил и арестом НКВД, и карой Господней, и людским осуждением, но своего добился – счетоводы были готовы и под пытками сохранить в тайне способы своего хитрого учета.
Когда в Михайловке, в комендатуре обнаружили, что из колхоза не поступило ни одного воза зерна, немцы обвинили Степановича в пьянстве, сняли с должности и велели колхозникам самим выбрать себе председателя, но тот должен был обеспечить ежедневную сдачу основной массы намолоченного зерна в распоряжение комендатуры.
Собрание колхозников длилось почти целый день, но каждый из тех, кого выкрикивали в председатели, настойчиво отказывался от такой должности. Все понимали, что если бы у Степановича не было друзей в комендатуре, то его вполне могли расстрелять за срыв поставок зерна.
Когда люди назвали кандидатуру пасечника Степана Парамоновича, он не стал сразу отказываться. Объяснил, что эта должность ответственная и рискованная, и сначала надо разобраться какая роль председателя. Спросил, обращаясь к присутствующим:
– Кто мне сможет пояснить, как наш колхоз работает: как при советской власти или по-другому.
С первого ряда ему ответил Николай Кондратьевич:
– Считается, что работаем, как и раньше, но немцы председателя назначили, а правление не выбирали, и Степанович самолично всем распоряжался.
– Так нам что, не разрешили выбирать правление?
– Почему не разрешили? – продолжал пояснять Николай Кондратьевич. – Просто тогда с непривычки никто не подумал о правлении.
– А сколько мы теперь обязаны сдавать зерна?
– Требуют все сдавать за исключением того, что на корм скоту положено и людям на трудодни, – хитро прищурившись, пояснял бухгалтер.
Задав ещё несколько вопросов десятникам и животноводам, Степан Парамонович обратился к людям:
– Я вам вот что скажу. Если никто не согласится председательствовать, то я могу попробовать. Но буду я председателем только до тех пор, пока вы слушаться меня будете и доверять. Теперь же на этом собрании нужно договориться, чтобы не сам председатель руководил, а члены правления в колхозе были, и чтобы правление за всё отвечало. В правление прошу назначить человек семь, не меньше. Я подумаю, посоветуюсь и завтра через десятников объявлю, кого я выбрал, – он откашлялся и ещё громче добавил. – Председателем соглашусь быть, только если мои предложения вы поддержите единогласно. Поэтому всех попрошу проголосовать, а те из полицаев, кому в комендатуре доверяют, пусть пройдут по рядам, посчитают, есть ли голосующие против или воздержавшиеся. И чтобы протокол сегодняшнего собрания написали официальный, и выберите, кто его подпишет от колхозников, и полицаи чтобы тоже заверили этот протокол.
С той поры работы бухгалтерии добавилось. Заседания правления проводили вечерами, по несколько раз в неделю. Утверждали хлебофуражный баланс, устанавливали нормы питания для колхозников, определяли величину натуральной оплаты по трудодням. Все это оформляли соответствующими протоколами. По протоколам выходило, что председатель на каждом заседании требовал увеличить поставки зерна и мяса в распоряжение новых властей, но должен был согласиться с доводами колхозников и решением большинства членов правления, отстаивающих другую позицию.