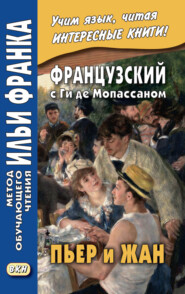По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь они оба стояли неподвижно, коленопреклоненные, как будто вместе возносили к небу пламенные мольбы. Полный господин прошел недалеко от них, бросил на них равнодушный взгляд и направился к выходу, продолжая держать шляпу за спиной.
Дю Руа, думавший о том, как бы добиться свидания где-нибудь в другом месте, не в церкви, прошептал:
– Где я вас увижу завтра?
Она не отвечала. Она казалась застывшей, превратившейся в статую, олицетворяющую молитву. Он продолжал:
– Хотите, встретимся завтра в парке Монсо?
Она повернулась к нему, открыла лицо, смертельно бледное, искаженное ужасным страданием, и сказала прерывистым голосом:
– Оставьте меня… Оставьте меня теперь… уйдите… уйдите… на пять минут… Я слишком страдаю в вашем присутствии… я хочу молиться… и не могу… Уйдите… Дайте мне помолиться… одной… пять минут… Я не могу… дайте мне умолить Бога, чтобы он меня простил… чтобы он меня спас… Оставьте меня на пять минут…
У нее был такой взволнованный вид, такое страдальческое лицо, что, не говоря ни слова, он встал, потом, после минутного колебания, спросил:
– Можно мне вернуться через несколько минут?
Она утвердительно кивнула, и он направился к клиросу.
Тогда она попыталась молиться. Она сделала невероятное усилие, чтобы призвать к себе Бога, и, трепеща всем телом, не помня себя, воскликнула, обращаясь к небу:
– Помилуй меня!
Она яростно сжимала веки, чтобы не видеть больше того, кто только что ушел. Она гнала от себя мысль о нем, она боролась с ним, но вместо небесного видения, которого жаждало ее измученное сердце, перед ее взором продолжали стоять закрученные усы молодого человека.
В течение уже года она днем и ночью боролась с этим все возраставшим искушением, с этим образом, который неотступно преследовал ее, который завладел ее мечтами и телом, который смущал ее сон. Она чувствовала себя пойманной, как зверь в тенетах, связанной, брошенной в объятия этого самца, победившего, покорившего ее одним только цветом своих глаз и пушистыми усами.
Теперь, в этой церкви, так близко от Бога, она чувствовала себя еще более слабой, более покинутой и потерянной, чем дома. Она не в состоянии была молиться, она могла думать только о нем. И уже страдала оттого, что он ушел. Однако она отчаянно боролась, защищалась, молила о помощи всеми силами своей души. Она предпочла бы смерть этому падению: ведь она никогда еще не изменяла мужу. Она шептала безумные слова мольбы, а сама прислушивалась к шагам Жоржа, замиравшим вдали, под сводами.
Она поняла, что все кончено, что сопротивляться бесполезно. И все же она не хотела сдаваться, ее охватило нервное исступление. В таком состоянии женщины падают на землю и бьются в слезах и судорогах. Она дрожала всем телом, чувствовала, что близка к тому, чтобы упасть и начать кататься между стульями, испуская пронзительные крики.
Кто-то приближался к ней быстрыми шагами. Она повернула голову. Это был священник. Тогда она поднялась, подбежала к нему и, протягивая к нему руки, прошептала:
– О, спасите меня!
Он остановился в изумлении:
– Что вам угодно, сударыня?
– Я хочу, чтобы вы меня спасли. Сжальтесь надо мной. Если вы мне не поможете, я погибла.
Он посмотрел на нее, спрашивая себя, не сумасшедшая ли перед ним. Он спросил снова:
– Что я могу для вас сделать?
Это был молодой человек, высокий, довольно толстый, с полными отвислыми щеками, синеватыми от тщательного бритья, красивый городской викарий зажиточного квартала, привыкший к богатым прихожанкам.
– Выслушайте мою исповедь, – сказала она, – дайте мне совет, поддержите меня, скажите, что мне делать!
Он отвечал:
– Я исповедую по субботам, от трех до шести часов.
Она схватила его руку и, сжимая ее, повторяла:
– Нет! Нет! Нет! Сейчас! Сейчас же! Это необходимо! Он здесь! В этой церкви! Он ждет меня!
Священник спросил:
– Кто вас ждет?
– Человек… который меня погубит… который мною овладеет, если вы меня не спасете… Я не в состоянии больше избегать его… Я слишком слаба… слишком слаба… так слаба… так слаба!..
Она бросилась перед ним на колени, рыдая:
– О, сжальтесь надо мной, отец мой! Спасите меня во имя Господа, спасите меня!
Она ухватилась за его черную сутану, чтобы он не мог уйти; а он, обеспокоенный, глядел по сторонам, боясь, не видит ли чей-нибудь недоброжелательный или благочестивый взгляд эту женщину, распростертую у его ног.
Наконец, поняв, что ему не удастся ускользнуть от нее, он сказал:
– Встаньте, сегодня ключ от исповедальни случайно при мне.
И, порывшись в кармане, он вынул связку ключей, выбрал один из них и направился быстрыми шагами к маленьким деревянным клеткам – к мусорным ящикам, предназначенным для душевной грязи, к ящикам, куда верующие бросают свои грехи.
Он вошел в среднюю дверь и запер ее за собой, а госпожа Вальтер бросилась в узкую клетку рядом и с жаром прошептала, охваченная страстным порывом надежды:
– Благословите меня, отец мой, я согрешила.
Дю Руа, обойдя вокруг клироса, пошел по левому приделу. Дойдя до середины его, он встретил полного лысого господина, продолжавшего прогуливаться спокойным шагом, и подумал: «Что делает здесь этот человек?»
Тот тоже замедлил шаги и посмотрел на Жоржа с явным желанием заговорить. Подойдя совсем близко, он поклонился и очень вежливо сказал:
– Извините, сударь, что я вас беспокою, не можете ли вы мне сказать, когда было выстроено это здание?
Дю Руа ответил:
– Я, право, не знаю. Думаю, что лет двадцать или двадцать пять тому назад. Впрочем, я сам в первый раз в этой церкви.
– И я тоже. Я ее никогда не видал.
Тогда журналист, подстрекаемый любопытством, сказал:
– Вы, кажется, осматриваете ее очень тщательно. Изучаете во всех подробностях.
Тот ответил покорным тоном:
– Я не осматриваю, сударь, я жду свою жену, которая назначила мне здесь свидание, но сильно запаздывает.