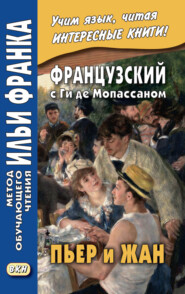По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Госпожа Ларош-Матье не пожелала изменить часа своего завтрака, и за столом с ними не было никого, кроме личного секретаря министра. Как только они уселись, Дю Руа сразу заговорил о своей статье, наметил главные положения, заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках, потом спросил:
– Не находите ли вы нужным что-либо изменить, дорогой министр?
– Почти ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы слишком определенно высказываетесь о мароккском деле. Говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, но в то же время дайте понять, что она не состоится и что вы сами в нее верите меньше, чем кто бы то ни было. Сделайте так, чтобы публика прочла между строк наше намерение не вмешиваться в эту авантюру.
– Отлично. Я понял и постараюсь дать это понять другим. Между прочим, жена просила меня узнать, послан ли генерал Белонкль в Оран? Из того, что вы сейчас сказали, я заключил, что нет.
Государственный муж ответил:
– Нет.
Потом они заговорили о предстоящей сессии. Ларош-Матье принялся ораторствовать, упражняясь в красноречии, которое он должен был излить на своих коллег через несколько часов. Он жестикулировал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, не глядя ни на кого, обращался к невидимому собранию, щеголяя своим слащавым красноречием и своей внешностью прилизанного красавчика. Очень маленькие закрученные усики торчали над его губой, точно два жала скорпиона, а его напомаженные бриллиантином волосы, с пробором посредине, спускались на виски двумя волнами, как у провинциального щеголя. Несмотря на свою молодость, он уже начинал жиреть и полнеть: брюшко подпирало ему жилет.
Личный секретарь, без сомнения уже привыкший к потокам его красноречия, спокойно ел и пил, но Дю Руа, мучимый завистью к достигнутому им успеху, думал: «Какое ничтожество! Что за идиоты эти политические деятели!»
И, сравнивая себя с этим напыщенным болтуном, он говорил себе: «Черт возьми! Будь у меня сто тысяч франков, чтобы иметь возможность выставить свою кандидатуру на звание депутата в моем милом Руане и забрать в руки моих славных, хитрых и неповоротливых нормандцев, – каким государственным человеком я стал бы среди этих недальновидных бездельников!»
Ларош-Матье ораторствовал вплоть до самого кофе; потом, заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали экипаж, и протянул руку журналисту:
– Вы меня хорошо поняли, дорогой друг?
– Отлично, дорогой министр, положитесь на меня.
И Дю Руа не спеша отправился в редакцию, чтобы писать статью, так как до четырех часов ему нечем было заполнить время. В четыре он должен был быть на Константинопольской улице и встретиться там с госпожой де Марель, с которой он виделся регулярно два раза в неделю, по понедельникам и по пятницам.
Но лишь только он вошел в редакцию, ему подали запечатанную телеграмму: она была от госпожи Вальтер и гласила:
«Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Очень важное дело. Жди меня в два часа на Константинопольской улице. Я могу оказать тебе большую услугу. Навеки преданная тебе Виргиния».
Он выругался: «Черт возьми! Вот пиявка!» – и, придя в дурное настроение, тотчас ушел, так как был слишком раздражен, чтобы работать.
В продолжение шести недель он старался порвать с нею, но ему не удавалось охладить ее упорную страсть.
После своего падения она сначала терзалась ужасными угрызениями совести и в продолжение трех свиданий подряд осыпала своего любовника упреками и проклятиями. Утомленный этими сценами и пресытившись уже этой перезрелой и склонной к драматизму женщиной, он стал попросту ее избегать, надеясь таким образом покончить с этим приключением. Но тогда она отчаянно уцепилась за него, кинулась в эту любовь, как кидаются в реку с камнем на шее. Из слабости, из снисходительности, считаясь с ее положением в свете, он позволил ей снова овладеть собой, и теперь она сделала его невольником своей неистовой и утомительной страсти, преследуя его своей нежностью.
Она хотела видеть его ежедневно, беспрестанно вызывала его телеграммами, назначала минутные свидания на углах улиц, в магазинах, в общественных садах.
Она постоянно повторяла ему, в одних и тех же выражениях, что она его обожает, боготворит, потом уходила, говоря, что была «бесконечно счастлива его видеть».
Она оказалась совсем не такой, как он себе ее представлял. Она старалась пленить его детскими нежностями и любовными ребячествами, смешными в ее возрасте. До сих пор она была строго честной женщиной с девственным сердцем, не испытавшим никакого чувства, не знавшей, что такое чувственность; и вдруг у этой благоразумной сорокалетней женщины, которая переживала нечто вроде бледной осени после холодного лета, наступила какая-то блеклая весна с маленькими недозрелыми цветами и недоразвившимися побегами – какой-то странный расцвет запоздалой девической любви, пылкой и наивной, выражавшейся во взрывах страсти, во вскрикиваниях шестнадцатилетней девочки, в утомительных ласках и нежностях, которые состарились, не узнав молодости. Она писала ему по десять писем в день, глупых, сумасшедших писем, составленных в каком-то поэтическом и смешном стиле, разукрашенном, словно индейские письмена, испещренном названиями животных и птиц.
Как только они оставались одни, она начинала его целовать с тяжеловесными шалостями неуклюжего подростка, с гримасами губ, вызывавшими смех, с прыжками, от которых тряслась под корсажем ее слишком полная грудь. Особенное отвращение вызывали в нем прозвища, которые она ему давала: мой котик, моя драгоценность, моя синяя птица, мое сокровище, и комедия девической стыдливости, которую она разыгрывала каждый раз, перед тем как отдаться, робкие ужимки, казавшиеся ей милыми, и игры развращенной школьницы.
Она спрашивала: «Чей это ротик?» – и, когда он не сразу отвечал «мой», она приставала к нему до того, что он бледнел от раздражения.
Она должна была чувствовать, казалось ему, что в любви необходим исключительный такт, исключительная ловкость, благоразумие, а главное – верный тон, что, отдаваясь ему, она, зрелая женщина, мать семейства, светская дама, должна была держать себя с достоинством, строго, со сдержанным увлечением, быть может, даже со слезами, но со слезами Дидоны, а не Джульетты[38 - …Дидоны, а не Джульетты. – В «Энеиде» Вергилия говорится о том, что герой поэмы Эней полюбил царицу Дидону, легендарную основательницу Карфагена, и встретил сильное ответное чувство с ее стороны; когда Эней вынужден был возобновить свои скитания, Дидона в отчаянии покончила с собой. Джульетта – героиня знаменитой трагедии Шекспира. Слова Мопассана противопоставляют страстную любовь зрелой женщины любви молодой девушки.].
Она повторяла беспрестанно:
– Как я люблю тебя, моя крошка! Скажи, ты меня тоже любишь, деточка?
Он уже не мог слышать этих слов – «моя крошка», «моя деточка» – без того, чтобы у него не явилось желание назвать ее «моя старушка».
Она говорила ему:
– Какое безумие я совершила, уступив тебе!.. Но я об этом не жалею. Любить – так хорошо!
Все это в ее устах раздражало Жоржа. Она шептала: «Любить – так хорошо», – словно театральная инженю.
Кроме того, его раздражала неловкость ее ласк. От поцелуев этого красивого мужчины, воспламенившего ее кровь, в ней проснулась чувственность, но во время объятий она проявляла такую неумелую пылкость и такую серьезную старательность, что Дю Руа становилось смешно, и ему приходили на ум старички, пытающиеся учиться грамоте.
А в те минуты, когда она должна была бы душить его в своих объятиях, страстно глядя на него глубоким и страшным взглядом, какой бывает у увядающих женщин, великолепных в своей последней любви, – когда она должна была бы кусать его немыми, трепетными губами, прижимая к своему полному, горячему, утомленному, но ненасытному телу, – в такие минуты она суетилась, как девчонка, и сюсюкала, желая ему понравиться: «Я так люблю тебя, моя крошка, так люблю. Приласкай хорошенько свою женушку!»
Тогда им овладевало безумное желание выругаться, схватить шляпу и уйти, хлопнув дверью.
В первое время они часто встречались на Константинопольской улице, но Дю Руа, опасавшийся встречи с госпожой де Марель, находил теперь тысячи предлогов, чтобы отклонять эти свидания.
Но тогда ему пришлось являться к ней чуть не ежедневно то завтракать, то обедать. Она жала ему руку под столом, подставляла губы где-нибудь за дверью. Ему, однако, гораздо больше нравилось шутить с Сюзанной, забавлявшей его своими проказами. Под ее наружностью куколки скрывался живой и насмешливый ум, неожиданный и лукавый, всегда умевший блеснуть подобно ярмарочной марионетке. Она смеялась над всем и над всеми язвительно и метко. Жорж возбуждал ее красноречие, поощрял ее насмешливость, и они отлично ладили друг с другом.
Она беспрестанно обращалась к нему: «Послушайте, Милый друг. Подите сюда, Милый друг».
Он немедленно покидал мамашу и бежал к дочке: та шептала ему на ухо какую-нибудь лукавую шутку, и они смеялись от всей души.
Между тем пресыщение любовью матери начало переходить в нем в непреодолимое отвращение; он не мог больше видеть ее, слышать, думать о ней без злобы. Он перестал у нее бывать, отвечать на ее письма и уступать ее мольбам.
Она поняла наконец, что он ее больше не любит, и это причинило ей ужасное страдание. С ожесточенным упорством она начала преследовать его, подсматривать за ним, подстерегать его, ожидая в карете с опущенными занавесками у дверей редакции, около его дома, на улицах – всюду, где она надеялась его встретить.
У него было желание прикрикнуть на нее, оскорбить, ударить, сказать ей откровенно: «Оставьте меня в покое, с меня довольно, вы мне надоели», – но из-за «Ви Франсез» он все же вынужден был считаться с ней и старался при помощи холодности, замаскированных резкостей, а порой даже и дерзостей дать ей понять, что всему этому должен наступить конец.
Она в особенности упорствовала в стараниях заманить его на Константинопольскую улицу, и он постоянно дрожал при мысли, что обе женщины столкнутся когда-нибудь нос к носу у входа в квартиру.
Наоборот, привязанность его к госпоже де Марель за это лето возросла; он называл ее своим «мальчишкой», и положительно она ему нравилась. В натуре их было много общего: оба принадлежали к породе любящих приключения бродяг, тех светских бродяг, которые, сами того не подозревая, имеют большое сходство с бродягами больших дорог.
Лето любовники провели очаровательно, как кутящие студенты: они отправлялись иногда завтракать или обедать в Аржантейль, Буживаль, Мезон, Пуасси и проводили целые часы в лодке, собирая цветы вдоль берега. Она обожала жареную рыбу прямо из Сены, рыбную солянку, фрикасе из кролика, беседки загородных кабачков, крики лодочников. Он любил ездить с ней в ясный день на империале пригородного трамвая и, болтая разные веселые глупости, смотреть на скучные окрестности Парижа, где разбросаны безвкусные виллы богачей. И когда ему надо было возвращаться с такой прогулки и идти обедать к госпоже Вальтер, он проклинал свою неотвязную старую любовницу, вспоминая о молодой, с которой он только что расстался и которая там, в зелени, на берегу, удовлетворила его желания и выпила его страсть.
Он уже думал, что наконец развязался с женой патрона, которой он ясно, почти грубо заявил о своем желании порвать, когда получил в редакции телеграмму, вызывавшую его к двум часам на Константинопольскую улицу. Он перечел ее на ходу:
«Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Дело очень важное. Жди меня в два часа на Константинопольской улице. Я могу оказать тебе большую услугу. Навеки преданная тебе Виргиния».
Он думал: «Чего еще ей от меня надо, этой старой сове? Держу пари, что никакого дела нет. Она будет мне повторять, что обожает меня. Все же придется пойти. Она говорит о каком-то важном деле и большой услуге. Может быть, это и правда. А в четыре должна прийти Клотильда! Нужно отослать первую не позже трех часов. Черт побери! Только бы они не встретились. Несчастье с этими женщинами!»
И ему пришло в голову, что, в сущности, только его жена никогда его не мучила. Она жила рядом с ним и, казалось, очень любила его в часы, предназначенные для любви, не допуская лишь нарушения неизменного хода ее обычных занятий.
Он медленно направлялся к своей квартире, мысленно возмущаясь женой патрона:
«Ну и встречу же устрою я ей, если окажется, что у нее нет никакого дела. Язык Камброна[39 - Язык Камброна – имеется в виду непечатная брань, которой французский генерал Пьер Камброн (1770–1842), командовавший в битве при Ватерлоо старой наполеоновской гвардией, ответил на предложение сдаться.] покажется изысканным по сравнению с моим. Прежде всего я ей заявлю, что больше ноги моей у нее не будет».
И он вошел в квартиру, чтобы подождать там госпожу Вальтер.