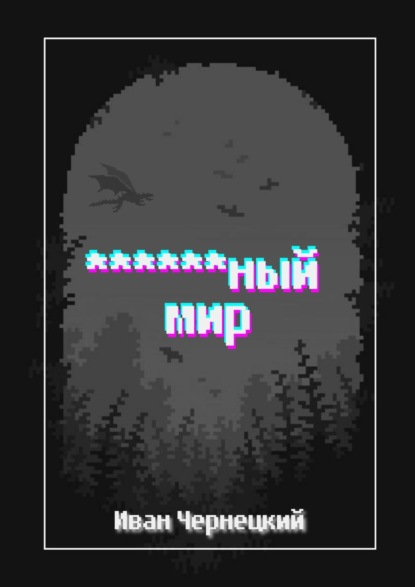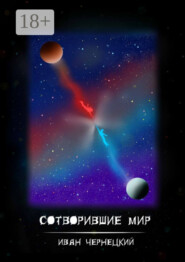По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
******ный мир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я чувствую. Привыкаю быстро. Говорить трудно.
– Да, манипуляции со ртом и голосовыми связками требуют много времени, прежде чем ты привыкнешь. Раньше мы общались только душой, а теперь у тебя появилось говорящее тело. Пойдем со мной.
Безымянный поднялся и ощутил, как легко стоять на двух ногах. и что на четвереньках придется горбиться. Он сделал шаг.
– Да, ты все правильно делаешь.
Он сделал другой.
– Смелее.
Он упал. Безымянный попробовал ползти на четвереньках, но для этого пришлось горбиться. Он встал.
– Начни падать и дай волю телу. Оно само даст тебе опору.
Безымянный сделал шаг, сделал другой, он упал, а затем встал. Он сделал шаг, он упал. Он сделал шаг, и еще один, и еще один, и еще, и еще, и еще… Он сделал шаг быстрее. Со следующим тоже поторопился. Он добежал до озера, а когда захотел остановиться, было слишком поздно. Безымянный упал на прозрачную землю. Спустя моргание она превратилась во что-то хрупкое и холодное. Безымянный провалился под землю, но падал он медленнее, нежели раньше. Он ощутил, что руками и ногами тяжелее двигать, и что мир вокруг стал давить на него. Он услышал журчание. За шиворот кто-то вцепился, а затем Безымянный стал падать в обратную сторону. Внезапно ему стало свободно, как и прежде (на пару морганий). После этого тело потяжелело и развалилось. Безымянный стал плоским, как лист на дереве. Его тащил (волок) кто-то на четырех лапах.
– Будь осторожен, – сказал голос. – Это вода, и она опасна для твоего тела.
«Я уже понял», – прозвучал голос (в мире художников, а не в мире картин).
***
Безымянный открыл глаза, и мир увидел зеленые огни, в коих заключалась сила гораздо большая, чем следовало ожидать. Лоскуты были свежими и сухими, они поднялись, а зеленый свет между ними направился к серому существу и высокой даме (Безымянный, наконец, освоил весь тезаурус, сокрытый где-то глубоко, в каком-то мире идей, откуда можно вытащить все что угодно, но не раньше положенного срока).
– Давай, – сказала она.
Прежде чем переплетенный лоскутами воздух поднялся, его душа устремилась прямо к свежему лепестку ромашки, в который была завернута гладкая кожа прекрасного сновидения. Все эти обороты в его голове внезапно вырвались наружу, и он видел перед собой не обычного человека, а изысканно оформленный луч света, что согревал и морозил одновременно. Этот взгляд… Ей было не все равно, но так она задумана – постоянно быть отстраненной, недолгой, торопящейся скрыться в безмолвии. Она еще никуда не делась, но он чувствовал, что как только подумает, что ему с ней хорошо, она убежит от него, ускользнет не так, как жемчужина с ракушки, а как лезвие с горла эльфа в каком-нибудь романе про гражданскую войну нелюдей и Нелюдей.
– Ты быстро учишься. Я рада этому, мой дорогой.
Он теперь мог говорить вслух, но предпочел придерживаться образа недотроги, чтобы она чувствовала холодок, ведь, несмотря на ее великую роль, сущность ее была такая же, как у других представительниц ее семейства.
– Пойдем, – она улыбнулась, и Безымянный увидел утиные лапки, непроизвольно осваивая свое новое зрение (он не мог знать признаки искренней улыбки, но наверняка ему так и показалось, потому что в противном случае нет смысла жить на Воде, где следует с подозрением относиться даже к языку тела).
Безымянное облако из бинтов выпрямилось посреди поляны. Позади него лежало озеро, но отражение его не интересовало, потому что он всегда мог видеть себя со стороны. Он не оборачивался, но знал, что сородичи наблюдают, провожают его с сожалением, что, скорее всего, больше не увидят его на этой поляне, в самом центре царства рефлективов.
***
Они оставили дом, когда спустились с Великой горы. Безымянный обернулся, чтобы увидеть подъем (или, несколькими днями ранее, спуск). В груди, наконец, что-то произошло. Он и не подозревал, что встретит Тоску в самый последний момент, когда уже будет слишком поздно возвращаться.
Женщина стояла на последней ступени, и все были уверены, что дальше сойти она не сможет. Но… Зачем она явилась тем, кто принял решение покинуть дом, чтобы увидеть мир, бесконечно меняющийся и перерождающийся. Зачем она разрушала то, что росло в разуме годами. Для чего сеять сомнения, когда ты уже стоишь одной ногой на дороге нового и неизведанного. Кажется, ответ прост. Тоска не предназначена для чего-то иного. Она всегда так делала и будет продолжать останавливать путников в переломные моменты жизни, чтобы напомнить им, какими они были, а не какими стали. И дай дьявол людям такую жизнь, при которой не станет совсем горько, или при которой Ностальгия не будет вынуждена сказать: «прошу прощения, друг, но теперь у тебя уже не так хорошо получается жить».
– Тоска, сестрица. Оставь его, – сказала Тишина. – Он не вернется.
– Я просто хочу напомнить, в последний раз показать, как хорошо Паппетиру было со своим племенем. И как одиноко ему теперь, в этом алчном мире, что растет на этой равнине, как сорняк.
Тишина посмотрела на своего спутника, а тот вообще не смотрел ни на кого. Своим взглядом он давно ушел от сюда. Тишина так же, как и Тоска, могла чувствовать боль души, и у забинтованного безымянного создания эта боль была, причем ее разделял мохнатый серый друг, сопровождающий их с самого начала (Тишина видела, как серого рефлектива сдавливала цепь, на которую, в придачу, одной ногой надавила Тоска).
– Отпусти его, – сказала Тишина.
– Сестра, ты, видимо, не понимаешь, какую роль мы с тобой играем. Я не могу отступить, так почему же ты продолжаешь оскорблять свой рок?
Тишина повернулась к Паппетиру и Безымянному. Она ничего не сказала, и это значило, что ее воля по-прежнему связана с серым рефлективом (с одиноким разумным волкоподобным созданием, чья душа воплотилась в забинтованном человеке). Просто, наперекор Тоске, необходимо оставить прошлое без слов. В тишине. Тогда получится разорвать цепь, что связывала тебя не один год. Тишина нужна для того, чтобы уйти.
– Ты уходишь в неизвестность с существом, что не живо и не мертво. У него даже имени нет, – сказала Тоска, расположившись на последних ступенях (было похоже, что она собралась ждать на этом месте возвращение кого-то из троих путников).
– Его имя – Харон, – прошептал железный голос. Его отправил Паппетир, как прощальную мысль перед уходом.
Тоска, беловолосая копия своей сестры, Тишины, наблюдала за ними каждый из тех трех дней, которые они шли по Великой равнине. Она смотрела, как ее любимый отдаляется днем, и как он спит ночью без тепла от костра. Под конец третьего дня они скрылись в Великом лесу, и сестра Тишины боле не чувствовала боли Паппетира, ведь ее душа переполнилась ее собственной.
VIII
Харон открыл глаза. Они светились зеленым. Он бежал по синей траве. По полю тянулась тропинка, а по ее бокам были расставлены живые фонари. Дорога прямо говорила, что по ней нужно идти, идти и еще раз идти. Вокруг летала голубая пыль. Харон очутился в пещере, потолок которой заканчивался так же высоко, как и небо над землей.
Он перешел на плитку и почувствовал, как стучат когти. Тогда он посмотрел вниз, а затем осознал, что похож на Фокси. Нет, он понял, что он и есть Фокси. Зверь бежал по дороге один. Вскоре он стал замечать вблизи тропы своих двойников. Они были похожи как две капли, но все отличались окрасом. У кого-то шерсть была фиолетовой, у кого-то красной или синей. Кто-то был пестрым, но только Харон был серым. Все звери размахивали острыми хвостами и направляли длинные морды в сторону бегущего сородича. Они шептали ему: «Беги, Паппетир… Он ждет тебя», – но челюсть их была неподвижна (и зубы были прижаты друг к другу). Харон смотрел на них как подростки на назойливых братьев и сестер.
Он бежал по плитам, пока не показалась скала. Возле ее основания стояли те же фонарики. Одни напоминали опёнки, а другие дождевики. Выше на камнях лежали какие-то бледно-синие лианы со светящимися пузырями (а светились они каким цветом? Правильно – голубым). На горе из каменных пластов кто-то додумался поставить стул с золотой отделкой.
На дорогой подлокотник упала черная рука, напоминающая сморщенное дерево. На пальцах закрепились когти. Рога были длиннее головы, и по сравнению с телом казались толстыми. Существо было высоким и жутко худым. Оно было черным, отчего казалось, что на стуле сидит живая тень.
– Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры, – сказала тень.
– О, поверь, я здесь не ради забавы, – ответил Харон. Его челюсть осталась неподвижной. – Мне снова нужны ответы.
– С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, – ко злу.
Демон белой горячки олицетворял Тоску (все же она переняла главные черты отца, в то время как сестра Тишина больше походила на мать, Госпожу Совесть). Он смотрел на Харона как на виновника. Это было понятно, хоть и видно было только силуэт – тень, а не того, кто за нею скрывался.
– Я понимаю это. Как видишь, я залез за истиной так глубоко, как это вообще возможно, – сказал Харон.
– И истина требует, подобно всем женщинам, чтобы ее любовник стал ради нее лгуном, но не тщеславие ее требует этого, а ее жестокость…
– Да, я наслышан о вреде алкоголя и о том, что многие сделки с тобой заканчиваются летальным исходом. Ты мне еще тогда все уши прожужжал. Впрочем, я залез сюда не язвить у твоих ног. Как я и сказал, нужно спросить кое о чем.
– Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное; и все же она есть признак веселого настроения… Ты, любитель познания! Что же до сих пор из любви сделал ты для познания?
– Ты всегда считал, что я не достоин твоей дочери, – сказал Харон в облике Паппетира.
Некто в кресле приосанился.
– Но сейчас я пришел по другому делу. Тебе не о чем волноваться.
Невозможно описать то, как Демон белой горячки затевает приступ гнева, но в следующий момент он передумал, потерял напряжение и сохранил свое игривое настроение.
– Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью.
– Ты можешь и дальше намекать на то, что я пропитан тьмой, и что во мне пустоты больше, чем в бездне. Однако у тебя есть долг передо мной. Или ты, восседая на троне короля сделок, уже разучился соблюдать свою часть договора?