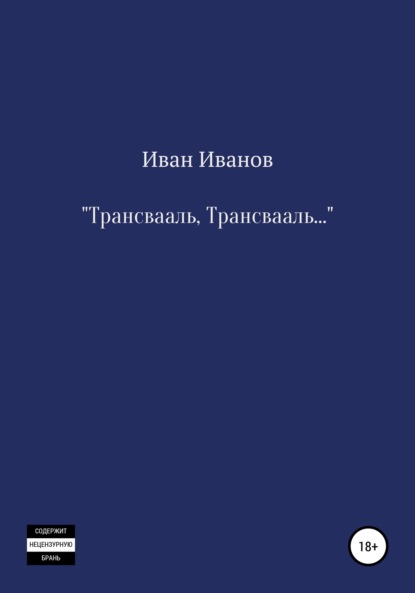По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так что же мы тут прохлаждаемся-то? – напомнил гость о затянувшемся привале.
От услышанного, видно, в нем померкла и хвастливая его затея с выкупом сивого мерина:
– А с Дезертиром-то, крестный, явно я пересолил. Да и с «яшшиком белоголовой» тоже. Всё это моряцкое пижонство! Закидоны окаянного обвыкания рыбаря дальнего заплыва с берегом после каторжного моря.
– Но нет! – бахвалисто отмел малодушие гостя захмелевший новинский Причумажный. – Коли зачислили сивого мерина себе в обоз, то и «белеголовый пшеничный» боезапас надо доставить на позицию стола в полной сохранности и в срок. Жуть, как утрем нос деревне! Пускай знают Весниных, сколь бы их жизня ни вышибала из седла, а они все – на коне…
После благостного отдохновения на речном приволье новинские кровные сродники, чтобы продлить в себе душевный смак, избрали дорогу через пойменный луг. Правда, это выходило немного дальше, чем проселком, изрытым мощными лесовозами глубокими колеями и ухабами, зато теперь их попутчиками были вольные птицы и всякая стрекочуще-пиликающая на все лады травная тварь у ног. Да и сами причумажные странники, как бы сбившиеся с дороги, выглядели под стать божьей благодати, прямо скажем, живописно. Разглагольствующий всадник-орденоносец с деревянной ногой, горделиво восседавший на изжившем себя сивом мерине, смахивал на пламенного Дон Кихота, а его верным оруженосцем Санчо был долгожданный гость-рыбарь, который с палкой на плече вместо копья плелся позади коняги и перед облезлой махалкой казнил себя, что не везет подарка сыну Шурке-Мичурину, до сего дня не значившемуся в его сознании: «Однако ж, хорош гусь, Иона Веснин, экое сотворил».
…Углубляясь в лог, заросший косматыми ветлами, которые своими купами походили на причесанные живые стоги, дядя посетовал:
– Жуть, какие разрослись тут волчьи дебри. Ведь еще на моей памяти здесь метали большое сено… А одичание началось с того, што мужику запретили косить. Пускай трава уйдет, мол, под снег, но ты не моги махнуть литовкой для своей коровы. Теперь и их, кормилиц, будто языком слизало со дворов. И косить вовсе не надо. О, как легко живем в деревне! Ешь газету, пей вино, радиом закусывай! И сдается мне, крестник, все идет к тому, што у нас все одичает… Да оно для природы, пожалуй, и к благу выйдет. Она внове отродится в первозданности. А вот ежель человек вконец одуреет от собственной бестолочи, это будя ему, как сказанет наш жеребячий сват Илья Брага, капут капитализму! Потом потребуются уже не просто мужики, а рьяные Робинзоны, но таковых немного сыщется на земле.
Перед выездом на лесной проселок в зарослях осокоревой уремы уже смело защелкали и первые невидимые соловьи-разбойники. В высоких и тучных травах-дудняке – то там, то сям – запокрякивали дергачи, как бы спозаранку собираясь пешком в свое ночное. И седок на сивом мерине, уже было задремавший, вдруг размечтался:
– Вот так бы ехал и ехал в этакой благости, не зная ни забот, ни печалий, – и тут же как бы невзначай обратился к Ионе: – А тебе, крестник, случаем не надоело блукать по белу свету? Твое шатанье по морям, по волнам, как мне сдается – пустое гвоздодерство! Это, когда одним концом вбиваешь гвозди, зашибаешь большую деньгу, а другим их вытаскиваешь, свои нелегкие труды спускаешь яшшиками.
– Крестный, по самое горло сыт советами.
– Племяш, труждуший человек живет не чужими советами, а делом своим! – возвысил голос дядя. – А ты не сделал этого дела. Не сделали его за тебя и другие. Ежель и сделали б, то не так, как сработал бы ты сам свое дело, то, которое и есть над нами – суд Божий!
Гость в оправдание себе за несостоявшуюся роль устроителя земли новинской сам с укором спросил:
– А ты-то, мастер Новин, чего такого тут добился?
– Моих делов, – вздохнул дядя, – их тоже тут кот наплакал. Все выправлял чьи-то промахи да огрехи и на этих кособоких жерновах перемолол жисть свою, всю как есть, на муку истории, штоб выпекать все те же дырки от бубликов.
Выкупленного сивого мерина сродники отпустили на вольный выпас перед Лешачьим урочишем. Снимая с него узду, Данила Ионыч не удержался от шутки:
– Теперь ты, Дезертир, у нас – Божья лошадь: нигде не числишься и живая! С тобой в пору б поменяться жистью, только из-за одного твоего пачпорта. Как ты возвеличен над рядовым колхозником, аж завидки берут! А вот узду твою – возьму себе на память. Шуркиным детям передам. Так што память о тебе будя долгой.
За березовым Татьяниным колком открылась деревня, где уже вовсю гуляла по кругу – от двора к двору – петушиная зоревая. У околицы дядя разумно предложил племяшу свернуть к реке, чтобы не привлечь внимание сельчан своим «белоголовым боезапасом».
– К дому подойдем со стороны огородов. А то на дармовую выпивку набежит – ни свет, ни заря – всякая шелупень. Жуть, как помельчал за последние годы народишко-то в деревне. Вместо косы али топора все норовит ухватить в руки граненый стакан. И особливо все горазды на шаромыгу.
И помолчав немного, он тяжко провздыхал:
– Вот так мы, племяш-крестник, тут и живем-маемся. Свои, через постоянные отчебучи сверху, бегут из деревни куда гляделки глядят, а пришлая шелупень без роду без племени, которой ни за кого не больно, ни перед кем: ни перед людьми, ни перед Богом не стыдно и не страшно, прет откуда-то. Как тараканы из щелей прет, жуть!
Напротив взгористых огородов, почти у самого среза речного кряжа расположились в ряд бани – визитные карточки своих хозяев… Дядина баня была уже не новой, но еще держала веснинский форс: стояла прямо. Да еще и топилась в такую-то рань! Гость сложил с плеча наземь переметную поклажу и только было хотел заглянуть в предбанник, как встречь ему из-под сизой завесы дыма вынырнула юркая женщина, в которой Иона узнал дядину жену, свою любимую тетку:
– Крестная! Параскева-Пятница ты наша!..
– Прилетел-таки, голубь ты наш! – в свою очередь всхлипнула тетка, тычась лицом в грудь крестнику. Но вот, чтобы лучше разглядеть его, она отступила на шаг и осталась довольной. – Гляжу, справный, да и заматерел, как следно!
Рыбарь же удивился тетке:
– Какой маленькой-то ты стала, крестная?!
– Такие уж мои поворотные годы. От работушки и заботушки кажин-то день, оно давит к земле-от.
– От ничегонеделанья-то не скрючатся руки в вороньи лапы, – буркнул дядя, садясь на перевернутый желоб под окном бани. Тетка, уловив содрогнувшийся взгляд крестника на своих скошенных ладошках с узловатыми ревматическими пальцами, спрятала руки под передник. И, видно, решила развеселить гостя:
– Дядюшка-то твой причумажный, ишь што надумал: скулемесил тебе телеграмму, кубыть собрался в отходную… Вота, умом-то не надеялась, а сердцем чуяла – летит голубь наш! А раз старик вчерась не вернулся к ночи домой, подумала: встренулись-таки сродники в Граде. Потому-то и затопила вам спозаранок байню. Крестник, да ты сядь на желоб-от, с дороги ж. А я счас доношу воду из подгорья и можно будя мыться.
Гость же с хохотом усадил тетку с дядей рядышком, мигом сорвал с себя одежды, и в плавках, с гиком припустил с косогора вприпрыжку с ведрами в руках. Вот и сбылась морская печаль-тоска – побегать босиком по росной траве.
Снует Иона этаким проворным челноком, то в гору, то под гору, а у самого перед главами ткется знакомая ему картина-ковер из его, Ионки Веснина, жизни.
Разбежавшемуся гостю загородила дорогу Параскева-Пятница:
– Ну, будя тебе парить лоб-от. Байня готова! Пока ставлю самовар, ты тут хвыщись веником – хошь березовым, хошь вересковым: оба замочены в котле. А дядюшка помоется потом. Видно, уморился с дороги, дак пошел в дом отдохнуть…
Всласть напарившись в жаркой бане и до одури накупавшись в Реке, ублаженный гость огородами подошел к нарядному родному крыльцу с точеными столбиками и балясинами.
Послевоенный дом Весниных, срубленный из сосновых лесин в зимнем бору и поставленный на старый фундамент из крупных валунов, гляделся осанисто. Высокий фронтон, покрашенный в голубой цвет, походил на осколок неба, врезанный в треуголку крутой крыши; его венчал еще и червовый туз, будто родовой герб. Для большей выразительности затейливое кружево выпиленных наличников-«рушников» на окнах, строгие резные строчки карнизов и такого же фасона «платок» фронтона были покрашены в белое. Все это говорило, что хозяин не пожалел ни усердия своего, ни выдумки, ни краски. И только широкое, так называемое «итальянское» окно на кухне выглядело здесь как бы чужеродным. Это была дань вынужденному походу новинского мастера на Запад в последнюю войну, которая обкарнала его по самый пах.
Просторная кухня, половина пятистенка, служила дяде и столярной. Потому и массивной печке с разными выступами и печурками было определено хозяином не только варить, но еще и сушить древесный «матерьял», который аккуратно располагался над ней и вокруг нее на хитроумных подвесках.
И до того ж «струмент» был для глаза соблазнительным своей ухоженностью, что так сам и просился в руки, как когда-то говаривал Ионкин дед, Великий столяр Новин, для дел «душеугодных»!
Вдруг послышался до колики в ушах знакомый заливистый перезвон фамильного родового колокольчика, от которого словно бы запели небеса. В свое время каждый селянин-селянка еще издали узнавали в стадной разнозвоннице ботало или бубенец на шее своей коровы. Иона рванулся было к окну, чем уморил до слез тетку:
– Крестник, не там высматриваешь нашу Красену. – Она схватила за руку гостя и потянула его за собой в горницу, где показала ему потешающим взглядом на стену над кроватью, над которой, на манер старинных доспехов хозяина дома, был водружен в виде головы коня новый протез его ноги с надетым на него ременным ошейником с позеленевшим от времени колокольчиком «Дар Валдая». – Вона, куда наш причумажный сподобил свою запчасть, – и весело посмеялась. – Штобы потешить душеньку, потренькать в коровий балабончик.
– Дак, тебя ж порой не дозовешься, – стал оправдываться дядя. – К тому ж, потренькаешь и чудится, будто б и впрямо наша Красена, пришла с поля и чешет межрожье об угол хлева.
– Эть, как складно скулемесил: Красена пришла с поля! – напустилась тетка на мужа. – Можно подумать, вовсе не над ним издивлялись в своих припевках новинские девки.
Будучи бессменным стражем колхозной законности, Данила Ионыч не переставал бороться с пройдошистой заведующей Новинской маслодельни Паланьей Петушковой, которую сколько б не уличали в прохиндействе, ей все сходило с рук. В Новинах ее по-сродственному прикрывал муж-парторг, в районе румяную мастерицу пригрел под своим крылом директор молокозавода. Тогда новинцы, окончательно устав от ее бессовестных поборов, решили поставить в маслоделы своего законника:
– Сорока-Воровка все едино своими проказами не даст нашему столяру мастерить, как следно, а так хошь Данила наведет порядок в маслодельне.
И в своем предвидении они не промахнулись: жирность молока сразу же подскочила втрое. Но что за наваждение, при годовом расчете молокозавода с колхозом и новинскими «молоконосами» – «за так» фактическая жирность молока оказалась опять на Паланьиной зарубке: «1,1 %». И свежеиспеченный честняга-маслодел попал в растратчики, что было тут же увековечено девками в устной летописи деревни:
Как оказался не у дел
Причумажный маслодел.
И к радости Паланьи —
Заколол свою Красену.
Этого-то и не могла простить Параскева-Пятница своему мужу:
– Другие у сметаны – пупы себе насаливают, а мой маслодел от скупердяйства за чужое добро иссох весь, как церковная просвирка, да еща и кормилицы лишился, чтоб расплатиться с долгами.
Серчает, а сама, знай пододвигает гостю то одно, то другое:
– Ты меду-то черпай ложкой – не жалеючи. Свой, к тому ж – липец! А пчеловодить-то помогает дедку уже твой крестник Шурка. Страсть, какой толковый – весь в тебя, – и она прикусила язык.