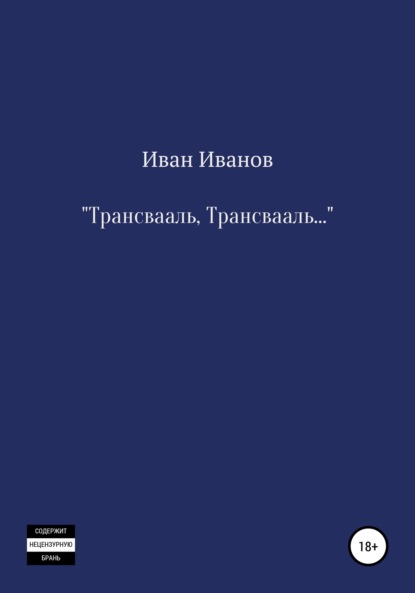По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кубинские! Специально для тебя привез, крестный, попробовать заморского зелья.
– Ух, какие баские конфетины! – в свою очередь подивился Данила Ионыч, вертя в пальцах сигару, не зная, каким концом вложить в рот диковинную штуковину, пряно пахнущую табаком. А когда раскурил ее от зажигалки, преподнесенной в подарок фартовым племяшом, он с непривычки зашелся кашлем до слез. – Жуть!.. А так-то будя, пожалуй, покрепше нашей махры.
Привередливый курильщик, держа в пальцах по-простецки, как козью ножку, дорогую сигару, наконец-таки распробовал смак заморского зелья:
– А так-то – ничо… Скусно! Поди, и стоит немалых денег? – И помолчав в довольстве, полюбопытствовал по-свойски: – Коль так бездумно тратишься на яшшики с белоголовой, выходит, лопатой гребешь деньгу в своем море?
Рыбарь махнул рукой:
– Какое там «лопатой»… При нашей-то адовой работе чайной ложечкой черпаем, крестный. Просто получаем кучей, раз в полгода, по приходу из рейса.
Но говорить же об этом Ионке явно не хотелось. Даже холодком пробрало по спине, когда он, сидя сейчас в благостном тенечке приречного кустовья у «скатерти-самобранки», только на миг представил перед глазами неспокойный океан, над которым проносятся снежные заряды, волоча за собой белые бороды из колючей крупы. Судно гребет носом на волну. Промысловая палуба полнится – не просто рыбой, а трепыхающимся окунем, которого с маху не схватишь в руки. И вот всю эту массу – рыбка по рыбке – надо переработать, то есть ошкерить: обезглавить и вынуть потроха. Поэтому матросы, подвахта – механики, штурманы, радист, акустик, помощник кока юнга – все на палубе. Хоронясь от пронизывающего ветра, все стоят в пустых бочках, как говорит боцман Али-Баба, «по самые муде», и словно заведенные автоматы, часами машут и машут тесаками. Поэтому все они с головы до пят – извазганные рыбьей чешуей и потрохами. Вот о какой Атлантике-Романтике и чудесном течении Гольфстрим мог бы сейчас поведать фартовый моряк своему дорогому сроднику. Но умолчал. Так уж повелось, сошел рыбарь на берег и все его моряцкие передряги в рейсе остались на судне, как и его стоптанные всмятку башмаки. Иначе в его широкой душе не останется места для хорошего.
А чтобы закончить этот неприятный для него разговор, он извлек из чемодана маленький транзистор в кожаном футляре на ремешке: крутнул колесиком, и их тут же огрела, как плетью, все та же, еще начатая вчерашним утром, перхатая речь.
– Выключи ты эту балаболку! – словно от ос отбиваясь, с остервенением замахал руками Данила Ионыч.
– Так вот, племяш-крестник, мы тут и живем – от отчебучи до отчебучи. Ежель и далее будем хозяйствовать таким макаром, то окажемся скоро и вовсе не у дел.
– В деревне и без дела? – удивился гость.
– А очень просто, настанет тот день, когда будя нечо зорить в деревне, – буркнул дядя, насупясь, как сыч. – А через это и последние пахари разбегутся по городам… Градские собьются в скопища, ровно жуки навозные в удушливых гноищах, сообща подъедят все съестные припасы, кои ишшо окажутся в щелястых лобазах, потом остервенятся друг на дружку и примутся исти самих себя да тем и сыты будут.
– Крестный, не боись… Не забывай, в какой век живем. Космос штурмуем! – смехом обнадежил племяш. – Когда и в городах станет жить невмоготу, а обратно ехать в деревню – все мосты сожжены, будут расселяться на звездах.
– Жуть! – зябко передернул плечами Данила Ионыч. – Ежель и случится такое, то выйдет, как про известную сказочку: «Я и от бабушки ушел…» И с колхоза убег… Да ведь и на звездах твоих придется начинать с колхозов. По-другому-то мы теперь и жить не умеем, разучились вставать с солнцем. К тому ж, нынешний колхозник уверовал себе только пахать да сеять. Урожай же убирать должен непременно горожанин. Дак, как прикажешь слать шефов на картошку в такую-то даль-дальнюю? Не накладно ль выйдет засевать небесные нивы, в то время как земные пашни лес одолевает? Кулемесь какая-то получается, племяш-крестник!
Гостю, видно, наскучили прибаутки:
– Что это мы все про дела да про дела.
– Што ж, теперь давай потолкуем и про твои… шуры-муры, – охотно согласился дядя, словно бы поджидал такого случая сменить разговор. – С Лешачихой-то што вышло? От кого снеслась чертиха кудрявая? Шурка-то разросся, как есть – наш Веснинский копыл с васильковой синью в очах! А по обличию и ухватке, дак и вовсе вылитый ты, шалопай волыглазый, как сказала б твоя любимая бабушка-покойница Аграфена Ивановна. А деревенский народ, сам знаешь, приметливый, потому и прозвание Шурке дали твое – Мичурин!
В душе рыбаря что-то трепетно запело, как в пазухе кондовой боровой сосны, тоненько, кузнечиковым стрекотом зуммерит отставшая невидимая перистая коринка, внезапно пронизанная пробившимся сквозь густые ветки лучом солнца: «Жена хлопочет о зачатии, а в деревне растет мой двухвихровый сын…»
Он не стал ни отрицать, ни соглашаться, а, заложив руки за голову, повалился спиной на песок, вперясь в проплывающие над ним редкие кучевые облака. И они, птицы небесные, с радостью подхватили его под белы руки, как брата родного, и – понесли над убережьем, от излуки к излуке.
За большим каменным одинцом «Кобылья голова», который делил реку на фарватер и Пенный омут, они бережно опустили его к подножью серебристых косматых ветл Три Сестры: Вера-Надежда-Любовь, росших над тихой заводью, заколдованной темной вьюрастой круженью на средине, а у берега испятнанной зелеными ладошками белых и желтых купав. И там под ветлами, едва коснувшись лопатками отчей земли, ему сразу припомнилось все вживе, что за давностью времени казалось однажды приснившимся.
…Это случилось с ним в один из теплых вечеров, густо настоянных на медвяной цветени лугового разнотравья, когда он, молодой садовод, ухайдакавшись за день в колхозном саду, сбежал к ветлам-сестрам, где по обыкновению вечером купался нагишом в облюбованной им заветной заводи. Быстро сбросив с себя одежду на траву, он по набитой им же тропке, в прискок, юркнул в прогал ивняка, чтобы с разбегу бухнуться в воду. Выскочив на песчаную плотную мокрядину, он оторопело охнув, попятился, стыдливо прикрываясь ладошками. Перед ним, под самым берегом, нежилась в парной воде… русалка с венком из белых лилий на голове. А свой лик и постав приняла подобие новинской крутобокой Молодой Лешачихи. И голос был ее – грудной, со смешинкой.
– Не боись, Мичурин, лезь в воду, не защекочу тебя.
Легко сказать «не боись», если заводь у «Трех Сестер» не близкая от деревни. Да и вечерняя река – один на один – всегда пугает человека своей потаенностью. А тут еще и раскосмаченная русалка… Что из того, если она и походила на новинскую чертиху кудрявую? Ясное дело – морока… У парня и волосы встали дыбом. А когда лыбившаяся русалка с шумом вскинулась из вспененной ею воды, он и вовсе струхнул, рванул наутек на кряж. Но разве убежишь от нечистой силы? Это равно как во сне удирать от голой одуревшей девки: бежишь и ноги подкашиваются. Хочешь крикнуть, нету голоса, будто кто надавил коленом на горло.
Так это ж во сне. А наяву-то голые девки еще страшнее, так как в нужную минуту у парня не отрастают крылья, чтобы воспарить высоко над убережьем и думать: «Я – расту! Рас-ту-у…»
Она догнала его уже в приречной лощине, окруженной раскидистыми черемухами, и с хохотом, будто перекатывая во рту смешную горошину, повалила в голубую разнозвонницу луговых колокольчиков, орошенных мириадным стрекотом вечерних чиркунов. Потом рывком развернула его на спину, лицом к себе, и навалилась на него своей какой-то невесомой, присадчивой, как печная сажа, которую ни стряхнуть, ни оттереть, пока сама не опадет, вожделенной плотью, усыпанной бисеринами речной воды. И жарко задышала ему в лицо:
– Будешь теперь знать, как подглядывать за русалками в Реке, будешь! Вот возьму и зацелую досмерти!
Хохочет, а сама для пущей острастки, знай жмется к нему своими полными грудями, норовя коснуться его увертливых губ, будто плюшевыми пуговками.
Ему казалось, что с ним играется не русалка, а шалая медведица. Помня из сказок своей бабки, Груши, что косолапые не едят мертвятину, он притворился, будто бы умер. Но шалая медведица и не думала отступиться. Она тормошила его, обнюхивала, ластилась, благостно урча над ним все тем же грудным голосом:
– Как солнцем-то ты пропах, Ионка, аж блазнит!
И тут над ним заплескались опрокинутые вьюрастые омуты Лешачихиных глаз, пугая своей кромешной бездной. «Вот и пойми, где сейчас земля, а где небо… куда растут корнями черемухи?» – подумал он, возносясь куда-то в выси Господни. И летел легкой пушинкой, пока кто-то или что-то не сурыхнуло его вниз…
Но что за чудеса! Он не провалился в тартарары, а оставался лежать все на той же грешной земле, среди привялых от дневного зноя луговых колокольчиков, орошенных стрекотом неугомонных вечерних чиркунов, сквозь который слыша все тот же ласкающий шепот раскосмаченной русалки в облике новинской молодой Лешачихи:
– Ох, и наказаковалась я, Ионушка, аж самой не верится…
– А ты, что и вправду – русалка? – только бы не молчать, брякнул молодой садовод, замороченный не случавшейся доселе небылью, которая иногда приключалась с ним в сладостных снах.
– Какой же ты еще дурачок-то, Мичурин! – слышал он грудной рассыпчатый смех. – Русалки ж холодные, как лягухи, а я… Я не могу унять в себе жар даже в нашей родниковой Реке.
Потом она медленно уходила от него, а ему казалось, будто бы размывался редкостный чудесный сон. Пропуская через себя в межножье рядок луговых колокольчиков, который причудливо вился позади ее живых округлостей голубым бурунчиком, она походила на уплывающую шуструю утицу.
Он смотрел ей вслед, и ему хотелось вскочить на ноги, догнать и теперь уже самому повалить ее в голубую разнозвонницу, до бесконечности ласкать-тормошить и говорить разные глупости… Но на него навалилась какая-то неведомая ему сладостная истома, хмельно кружа голову.
А она, словно бы почувствовав на расстоянии его взгляд, круто обернулась, как девственница, стыдливо прикрываясь ладошками, одну держа на нагом теле выше, другую ниже. И сокровенно спросила:
– Сознайся, Иона, я была у тебя первенькой, да?
И отчаянно, игриво качнув окатыми бедрами, она тут же, скоком, сгинула с глаз за лохматым кустом калины в белесых зонтиках завязей, где будто бы крылами захлопала ладошами по голым, упругим бедрам.
…Прошли годы, когда и сама встреча-то с «русалкой» у заводи «Три Сестры: Вера-Любовь-Надежды» уже давно размылась временем, и вдруг его любимый сродник заводит с ним задушевный разговор о каком-то Шурке-Мичурине…
– «Выходит, что с ночного пожара молодой Лешачихи я нес тогда на руках не просто гулькающего карапуза, а сына своего. А потом, в тот же отпуск, еще и сруб срубил на бедность доярке, а вышло опять же, сыну своему», – удрученно размышлял рыбарь, лежа на горячем песке…
– Вот кино-то! – выдохнул гость, снова бодро садясь на песке, как «Ванька-Встанька».
– Да уж, чуднее не придумаешь! – как бы подслушивая покаяния племяша, буркнул в полудреме Данила Ионыч.
Гость, чтобы закончить разговор, резво вскочил на ноги, рванул к реке, где на мелководье, поднимая каскад радужных брызг над головой, с разбегу бухнулся в стремину солнечных зайчиков и давай ходить колесом, взбучивая воду. Будто пудовый шереспер с какой-то рыбьей радости варил пиво на престольный яблочный Спас. А вернувшись к «скатерти-самобранке», он, приметив в ногах шлифованный камушек-бляшку, поднял ее и с мальчишьей удалью «спек» по глади размоины чертову дюжину прыгучих «блинов». Плясовито прошелся колесом вокруг приречного гостевого становища, умудряясь поочередно прихлопывать ладошками себе по груди и шее. При этом еще успел нарочито обыденно спросить:
– А Шурка-то сейчас где?
– Где ж ему быть, как не под крылом своей матки? – с готовностью к большому разговору с блудным крестником дядя самолично налил себе стопочку желанной «пшенишшной» и, махом опорожнив ее, смачно крякнул: – Вот это – нашенская! – И продолжил: – Школьник он у нас! Пока учится у себя в деревне. Потом ему, как и всем деревенским мальцам, уготовлена ремеслуха в районе. А там, ежель допрежь не угораздит нелегкая в тюрягу, прямая дорожка в солдаты. Опосля службы уже начнется мыканье по городским общагам, где не жизня, дак пьянь горькая подставит ножку. Вот и вся будя его планида. А мне, племяш-крестник, ох, как не хотелось бы пожелать ему такого сшастия. Затем и высвистал тебя срочной телеграммой: собрался, мол, сыграть в деревянный яшшик, только не думал, што враз соберешься. А ты – тут как тут, явился не запылился!
– Мог бы и не собраться, не приди из рейса, – неохотно ответил рыбарь, явно обескураженный нежданным известием, что не ускользнуло от дяди.
– Не алиментов ли, моряк, испужался?.. Дак вот, не подумай чего худого о нашей Марине. Она, хошь и большая дуреха в своих женских слабостях, но как человек баба путевая! Ведь еще никому и ни разу не намекнула, што отец Шурки – ты, шалопай… Мало того, еще и твой грех валит на какого-то химлесхозовского, которого в Новинах никто не видывал в глаза и не слыхивал такой фамилии из двух слов: Бог-Данов! Ишь, как складно скулемесила: мол, сынка ей спослал Сам Бог с бородой! И нашей родословной васильковости в очах нашла свое оправдание. Шурка мой был зачат, мол, в тихой голубой разнозвоннице луговых колокольчиков, потому и вылупился он у меня таким синеволоким. Вот и возьми ее, чертиху кудрявую, за рупь двадцать!
Он тихо посмеялся и вновь сделался серьезным:
– Спросишь, к чему горожу тебе такой огород? На то есть свой резон!.. Порешили мы с твоей крестной, Параскевой-Пятницей нашей, взять Шурку себе в наследники. – И с укором подковырнул: – Раз таковых не нашлось ближе. Да оно и не предвидится, невестушка-то наша, как от тебя слышу, все ходит яловой. А Шурка нам – наша родная кровь. И было б негоже оставить его без своей Веснинской породы. Жуть, как негоже… И фамилию дадим свою.