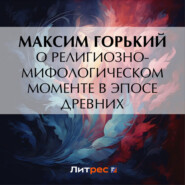По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всю жизнь я в мерзость носом тычусь… что не люблю, что ненавижу – к тому меня и толкает. Никогда не видал я такого человека, чтобы с радостью на него поглядеть можно было… Неужто никакой чистоты в жизни нет? Вот задавил я этого… зачем мне? Только испачкался, душу себе надорвал… Деньги взял… не брать бы!
– Не горюй! – утешала его Олимпиада. – Жалеть его – сердца нет.
– Я – не жалею… Я – оправдаться хочу. Всяк себя оправдывает, потому – жить надо!.. Вон следователь – живёт, как конфетка в коробочке… Он никого не удушит. Он может праведно жить – чистота вокруг…
– Погоди, уедем мы с тобой из этого города…
– Не-ет, я никуда не уеду! – твёрдо сказал Лунёв, оборачиваясь к женщине. И, грозя кому-то, он добавил: – Я подожду, погляжу, что дальше будет…
Олимпиада на минутку задумалась. Она сидела у стола, пред самоваром, пышная и красивая, в белом широком капоте.
– Я ещё поспорю, – значительно кивая головой, говорил Лунёв, расхаживая по комнате.
– А! – обиженно воскликнула женщина, – ты это потому не хочешь ехать, что боишься меня? Думаешь, я теперь навсегда тебя в руки заберу, думаешь, коли я про тебя… это знаю, – пользоваться буду? Ошибся, милый, да! Насильно я тебя за собой не потащу…
Она говорила спокойно, но губы у неё вздрагивали, как от боли.
– Что ты говоришь? – удивлённо вслушиваясь в её слова, спросил Лунёв.
– Неволить я тебя не стану, не бойся! Иди, куда хочешь, – пожалуйста!
– Погоди! – сказал Илья, садясь рядом с нею и взяв её за руку. – Не понимаю я, с чего ты этак заговорила?
– Притворяйся! – тоскливо крикнула Олимпиада, выдернув руку из его руки. – Знаю я – ты гордый, ты жёсткий! Старика мне простить не можешь, и противна тебе жизнь моя… думаешь ты теперь, что из-за меня всё это вышло… ненавидишь меня!..
– Врёшь! – гордо сказал Илья. – Врёшь ты, – ни в чём я не виню тебя. Я знаю – для нашего брата чистых да безгрешных женщин не приготовлено… нам они дороги. На них ведь жениться надо: они детей родят… Чистое – всё для богатых… а нам – огрызочки, нам – ососочки, нам – заплёванное да захватанное.
– И оставь меня, захватанную! – вскрикнула Олимпиада, вскочив со стула. – Уходи! – Но тут на глазах её сверкнули слёзы, и она осыпала Илью горячими, как угли, словами: – Я сама, своей волей залезла в эту яму… потому что в ней денег много… Я по ним, как по лестнице, назад поднимусь… и опять буду хорошо жить… ты мне в этом помог. Знаю… И люблю тебя – хоть десятерых задуши. Я в тебе не добродетель люблю – гордость люблю… молодость твою, голову кудрявую, руки сильные, глаза твои строгие… укоры твои – как ножи в сердце мне… зато я тебе буду… по гроб благодарна… ноги поцелую, – на!
Она свалилась в ноги к нему и целовала его колени, вскрикивая:
– Бог – видит! Я для своего спасения согрешила, ведь ему же лучше, ежели я не всю жизнь в грязи проживу, а пройду скрозь её и снова буду чистая, – тогда вымолю прощение его… Не хочу я всю жизнь маяться! Меня всю испачкали… всю испоганили… мне всех слёз моих не хватит, чтобы вымыться…
Илья сначала отталкивал её от себя, пытаясь поднять с пола, но она крепко вцепилась в него и, положив голову на колени, тёрлась лицом о его ноги и всё говорила задыхающимся, глухим голосом. Тогда он стал гладить её дрожащей рукой, а потом, приподняв с пола, обнял и положил её голову на плечо себе. Горячая щека женщины плотно коснулась его щеки, и, стоя на коленях пред ним, охваченная его сильной рукой, она всё говорила, опуская голос до шёпота:
– Разве кому лучше, коли человек, раз согрешив, на всю жизнь останется в унижении?.. Девчонкой, когда вотчим ко мне с пакостью приставал, я его тяпкой ударила… Потом – одолели меня… девочку пьяной напоили… девочка была… чистенькая… как яблочко, была твёрдая вся, румяная… Плакала над собой… жаль было красоты своей… Не хотела я, не хотела… А потом – вижу… всё равно! Нет поворота… Дай, думаю, хошь дороже пойду. Возненавидела всех, воровала деньги, пьянствовала… До тебя – с душой не целовала никого…
Она окончила свои слова тихим шёпотом и вдруг рванулась из объятий Ильи:
– Пусти!
Он ещё крепче стиснул её руками и начал целовать её лицо со страстью, с отчаянием.
– На слова твои мне сказать нечего… – горячо говорил он. – Одно скажу – нас не жаль никому… ну, и нам жалеть некого!.. Хорошо говорила ты… Хорошая ты моя… люблю тебя… ну не знаю как! Не словами это можно сказать…
Её речи, её жалобы возбудили в нём горячее, светлое чувство к этой женщине. Её горе как бы слилось с его несчастием в одно целое и породнило их. Крепко обняв друг друга, они долго тихими голосами рассказывали один другому про свои обиды.
– Не будет нам с тобой счастья, – сказала женщина, качая головой безнадёжно.
– Ну, – несчастье попразднуем!.. В каторгу понадобится идти – вместе айда? Слышишь? А пока – будем горе с любовью изживать… Теперь мне – хошь жги меня огнём… На душе – легко…
Взволнованные разговором, возбуждённые ласками, они смотрели друг на друга, как сквозь туман. Им было жарко от объятий и тесно в одеждах…
За окнами небо было серое, скучное. Холодная мгла одевала землю, оседая на деревьях белым инеем. В палисаднике пред окнами тихо покачивались тонкие ветви молодой берёзы, стряхивая снежинки. Зимний вечер наступал…
Через несколько дней Лунёв узнал, что по делу об убийстве купца Полуэктова полиция ищет какого-то высокого человека в барашковой шапке. При осмотре вещей в лавке убитого были найдены две серебряные ризы с икон, оказалось, что они краденые. Мальчик, служивший в лавке, показал, что эти ризы были куплены дня за три до убийства у человека высокого роста, в полушубке, по имени Андрея, что человек этот не однажды продавал Полуэктову серебряные и золотые вещи и что Полуэктов давал ему деньги в долг. Потом стало известно, что накануне и в самый день убийства человек, подходящий под описание мальчика, кутил в публичных домах.
Каждый день Илья слышал что-нибудь новое по этому делу: весь город был заинтересован дерзким убийством, о нём говорили всюду – в трактирах, на улицах. Но Лунёва почти не интересовали эти разговоры: мысль об опасности отвалилась от его сердца, как корка от язвы, и на месте её он ощущал только какую-то неловкость. Он думал лишь об одном: как теперь будет жить?
И чувствовал себя, как рекрут пред набором, как человек, собравшийся в далёкий, неизвестный путь. Последнее время к нему усиленно приставал Яков. Растрёпанный, одетый кое-как, он бесцельно совался по трактиру и по двору, смотрел на всё рассеянно блуждавшими глазами и имел вид человека, занятого какими-то особенными соображениями. Встречаясь с Ильёй, он таинственно и торопливо, вполголоса или шёпотом, спрашивал его:
– У тебя нет время потолковать со мной?
– Погоди, некогда…
– Ах ты!.. а дело важное.
– Что такое? – спросил Илья.
– Книга-то! Объясняет себя так, брат, что ой-ой! – пугливо сказал Яков.
– А ну тебя, с книгами! Ты вот что скажи: с чего это отец твой на меня зверем смотрит?
Но то, что совершалось в действительности, не задевало внимания Якова. В ответ на вопрос товарища он с недоумением вытаращил глаза и осведомился:
– А что?. Я ничего не знаю. Слышал я раз, – дяде твоему он говорил, – что-то вроде того, будто ты фальшивыми деньгами торгуешь… да ведь это так он, зря…
– А ты почему знаешь, что зря? – с улыбкой спросил Илья.
– Ну, что там? Какие деньги? Ерунда всё!.. – И, махнув рукой, Яков задумался. – Поговорить-то нет у тебя время? – спросил он через минуту, оглядывая товарища блуждающими глазами.
– Про книгу?
– Да-а… Тут одно место понял я, – фу, фу, фу-у, брат ты мой…
И философ сделал такую гримасу, точно обжёгся чем-то горячим. Лунёв смотрел на товарища как на чудака, как на юродивого. Порою Яков казался ему слепым и всегда – несчастным, негодным для жизни. В доме говорили, – и вся улица знала это, – что Петруха Филимонов хочет венчаться со своей любовницей, содержавшей в городе один из дорогих домов терпимости, но Яков относился к этому с полным равнодушием. И, когда Лунёв спросил его, скоро ли свадьба, Яков тоже спросил:
– Чья?
– Отца твоего…
– А! Кто его знает… Вот бесстыдник! Нашёл жену – тьфу!
– А ты знаешь, что у неё сын есть – большой уж, в гимназии учится?
– Нет, не знал, – а что?
– Так… наследник будет твоему отцу…
– Не горюй! – утешала его Олимпиада. – Жалеть его – сердца нет.
– Я – не жалею… Я – оправдаться хочу. Всяк себя оправдывает, потому – жить надо!.. Вон следователь – живёт, как конфетка в коробочке… Он никого не удушит. Он может праведно жить – чистота вокруг…
– Погоди, уедем мы с тобой из этого города…
– Не-ет, я никуда не уеду! – твёрдо сказал Лунёв, оборачиваясь к женщине. И, грозя кому-то, он добавил: – Я подожду, погляжу, что дальше будет…
Олимпиада на минутку задумалась. Она сидела у стола, пред самоваром, пышная и красивая, в белом широком капоте.
– Я ещё поспорю, – значительно кивая головой, говорил Лунёв, расхаживая по комнате.
– А! – обиженно воскликнула женщина, – ты это потому не хочешь ехать, что боишься меня? Думаешь, я теперь навсегда тебя в руки заберу, думаешь, коли я про тебя… это знаю, – пользоваться буду? Ошибся, милый, да! Насильно я тебя за собой не потащу…
Она говорила спокойно, но губы у неё вздрагивали, как от боли.
– Что ты говоришь? – удивлённо вслушиваясь в её слова, спросил Лунёв.
– Неволить я тебя не стану, не бойся! Иди, куда хочешь, – пожалуйста!
– Погоди! – сказал Илья, садясь рядом с нею и взяв её за руку. – Не понимаю я, с чего ты этак заговорила?
– Притворяйся! – тоскливо крикнула Олимпиада, выдернув руку из его руки. – Знаю я – ты гордый, ты жёсткий! Старика мне простить не можешь, и противна тебе жизнь моя… думаешь ты теперь, что из-за меня всё это вышло… ненавидишь меня!..
– Врёшь! – гордо сказал Илья. – Врёшь ты, – ни в чём я не виню тебя. Я знаю – для нашего брата чистых да безгрешных женщин не приготовлено… нам они дороги. На них ведь жениться надо: они детей родят… Чистое – всё для богатых… а нам – огрызочки, нам – ососочки, нам – заплёванное да захватанное.
– И оставь меня, захватанную! – вскрикнула Олимпиада, вскочив со стула. – Уходи! – Но тут на глазах её сверкнули слёзы, и она осыпала Илью горячими, как угли, словами: – Я сама, своей волей залезла в эту яму… потому что в ней денег много… Я по ним, как по лестнице, назад поднимусь… и опять буду хорошо жить… ты мне в этом помог. Знаю… И люблю тебя – хоть десятерых задуши. Я в тебе не добродетель люблю – гордость люблю… молодость твою, голову кудрявую, руки сильные, глаза твои строгие… укоры твои – как ножи в сердце мне… зато я тебе буду… по гроб благодарна… ноги поцелую, – на!
Она свалилась в ноги к нему и целовала его колени, вскрикивая:
– Бог – видит! Я для своего спасения согрешила, ведь ему же лучше, ежели я не всю жизнь в грязи проживу, а пройду скрозь её и снова буду чистая, – тогда вымолю прощение его… Не хочу я всю жизнь маяться! Меня всю испачкали… всю испоганили… мне всех слёз моих не хватит, чтобы вымыться…
Илья сначала отталкивал её от себя, пытаясь поднять с пола, но она крепко вцепилась в него и, положив голову на колени, тёрлась лицом о его ноги и всё говорила задыхающимся, глухим голосом. Тогда он стал гладить её дрожащей рукой, а потом, приподняв с пола, обнял и положил её голову на плечо себе. Горячая щека женщины плотно коснулась его щеки, и, стоя на коленях пред ним, охваченная его сильной рукой, она всё говорила, опуская голос до шёпота:
– Разве кому лучше, коли человек, раз согрешив, на всю жизнь останется в унижении?.. Девчонкой, когда вотчим ко мне с пакостью приставал, я его тяпкой ударила… Потом – одолели меня… девочку пьяной напоили… девочка была… чистенькая… как яблочко, была твёрдая вся, румяная… Плакала над собой… жаль было красоты своей… Не хотела я, не хотела… А потом – вижу… всё равно! Нет поворота… Дай, думаю, хошь дороже пойду. Возненавидела всех, воровала деньги, пьянствовала… До тебя – с душой не целовала никого…
Она окончила свои слова тихим шёпотом и вдруг рванулась из объятий Ильи:
– Пусти!
Он ещё крепче стиснул её руками и начал целовать её лицо со страстью, с отчаянием.
– На слова твои мне сказать нечего… – горячо говорил он. – Одно скажу – нас не жаль никому… ну, и нам жалеть некого!.. Хорошо говорила ты… Хорошая ты моя… люблю тебя… ну не знаю как! Не словами это можно сказать…
Её речи, её жалобы возбудили в нём горячее, светлое чувство к этой женщине. Её горе как бы слилось с его несчастием в одно целое и породнило их. Крепко обняв друг друга, они долго тихими голосами рассказывали один другому про свои обиды.
– Не будет нам с тобой счастья, – сказала женщина, качая головой безнадёжно.
– Ну, – несчастье попразднуем!.. В каторгу понадобится идти – вместе айда? Слышишь? А пока – будем горе с любовью изживать… Теперь мне – хошь жги меня огнём… На душе – легко…
Взволнованные разговором, возбуждённые ласками, они смотрели друг на друга, как сквозь туман. Им было жарко от объятий и тесно в одеждах…
За окнами небо было серое, скучное. Холодная мгла одевала землю, оседая на деревьях белым инеем. В палисаднике пред окнами тихо покачивались тонкие ветви молодой берёзы, стряхивая снежинки. Зимний вечер наступал…
Через несколько дней Лунёв узнал, что по делу об убийстве купца Полуэктова полиция ищет какого-то высокого человека в барашковой шапке. При осмотре вещей в лавке убитого были найдены две серебряные ризы с икон, оказалось, что они краденые. Мальчик, служивший в лавке, показал, что эти ризы были куплены дня за три до убийства у человека высокого роста, в полушубке, по имени Андрея, что человек этот не однажды продавал Полуэктову серебряные и золотые вещи и что Полуэктов давал ему деньги в долг. Потом стало известно, что накануне и в самый день убийства человек, подходящий под описание мальчика, кутил в публичных домах.
Каждый день Илья слышал что-нибудь новое по этому делу: весь город был заинтересован дерзким убийством, о нём говорили всюду – в трактирах, на улицах. Но Лунёва почти не интересовали эти разговоры: мысль об опасности отвалилась от его сердца, как корка от язвы, и на месте её он ощущал только какую-то неловкость. Он думал лишь об одном: как теперь будет жить?
И чувствовал себя, как рекрут пред набором, как человек, собравшийся в далёкий, неизвестный путь. Последнее время к нему усиленно приставал Яков. Растрёпанный, одетый кое-как, он бесцельно совался по трактиру и по двору, смотрел на всё рассеянно блуждавшими глазами и имел вид человека, занятого какими-то особенными соображениями. Встречаясь с Ильёй, он таинственно и торопливо, вполголоса или шёпотом, спрашивал его:
– У тебя нет время потолковать со мной?
– Погоди, некогда…
– Ах ты!.. а дело важное.
– Что такое? – спросил Илья.
– Книга-то! Объясняет себя так, брат, что ой-ой! – пугливо сказал Яков.
– А ну тебя, с книгами! Ты вот что скажи: с чего это отец твой на меня зверем смотрит?
Но то, что совершалось в действительности, не задевало внимания Якова. В ответ на вопрос товарища он с недоумением вытаращил глаза и осведомился:
– А что?. Я ничего не знаю. Слышал я раз, – дяде твоему он говорил, – что-то вроде того, будто ты фальшивыми деньгами торгуешь… да ведь это так он, зря…
– А ты почему знаешь, что зря? – с улыбкой спросил Илья.
– Ну, что там? Какие деньги? Ерунда всё!.. – И, махнув рукой, Яков задумался. – Поговорить-то нет у тебя время? – спросил он через минуту, оглядывая товарища блуждающими глазами.
– Про книгу?
– Да-а… Тут одно место понял я, – фу, фу, фу-у, брат ты мой…
И философ сделал такую гримасу, точно обжёгся чем-то горячим. Лунёв смотрел на товарища как на чудака, как на юродивого. Порою Яков казался ему слепым и всегда – несчастным, негодным для жизни. В доме говорили, – и вся улица знала это, – что Петруха Филимонов хочет венчаться со своей любовницей, содержавшей в городе один из дорогих домов терпимости, но Яков относился к этому с полным равнодушием. И, когда Лунёв спросил его, скоро ли свадьба, Яков тоже спросил:
– Чья?
– Отца твоего…
– А! Кто его знает… Вот бесстыдник! Нашёл жену – тьфу!
– А ты знаешь, что у неё сын есть – большой уж, в гимназии учится?
– Нет, не знал, – а что?
– Так… наследник будет твоему отцу…