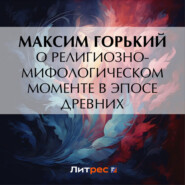По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ага! – равнодушно сказал Яков. И вдруг оживился. – Сын? Это на пользу мне, пожалуй, а? Вот бы отец-то мой этого бы самого сына-то да за буфет и определил! А меня – куда хочу!.. Вот бы…
И, предвкушая свободу, Яков смачно щёлкнул языком. Лунёв посмотрел на него с сожалением и сказал с усмешкой:
– Верно говорится, что глупому чаду – морковку надо, а дай хлеба ему – не подставит суму. Эх ты! Не придумаю я, как жить будешь?
Яков насторожился, выкатил глаза и быстрым шёпотом поведал:
– Я думал про это! Прежде всего надо устроить порядок в душе… Надо понять, чего от тебя бог хочет? Теперь я вижу одно: спутались все люди, как нитки, тянет их в разные стороны, а кому куда надо вытянуться, кто к чему должен крепче себя привязать – неизвестно! Родился человек – неведомо зачем; живёт – не знаю для чего, смерть придёт – всё порвёт… Стало быть, прежде всего надо узнать, к чему я определён… во-от!..
– Эк ты въелся в эти рассуждения твои, – напряжённо сказал Лунёв. – И какой в них толк?
Он чувствовал, что теперь тёмные речи Якова задевают его сильнее, чем прежде задевали, и что эти слова будят в нём какие-то особые думы. Ему казалось, что кто-то чёрный в нём, тот, который всегда противоречил всем его простым и ясным мечтам о чистой жизни, теперь с особенной жадностью вслушивается в речи Якова и ворочается в душе его, как ребёнок в утробе матери. Это было неприятно Илье, смущало его, казалось ему ненужным, он избегал разговоров с Яковом. Но отвязаться от товарища было нелегко.
– Какой толк? Самый простой. Без этого – как без огня.
– Ты, Яков, вроде старика, – скушно с тобой. И свинья ищет удачи, а человек – тем паче, – как говорится.
После этих разговоров он чувствовал себя так, точно много солёного поел: какая-то тяжкая жажда охватывала его, хотелось чего-то особенного. К его тяжёлым, мглистым думам о боге примешивалось теперь что-то ожесточённое, требовательное.
«Всё видит, а – допускает!..» – думал он хмуро, чувствуя, что душа его заплуталась в неразрешимом противоречии. Шёл к Олимпиаде и в её объятиях прятался от своих дум, тревог.
Изредка посещал он и Веру. Весёлая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказывала Илье о кутежах с богатыми купчиками, с чиновниками и офицерами, о тройках, ресторанах, показывала подарки поклонников: платья, кофточки, кольца. Полненькая, стройная, крепкая, она с гордостью хвасталась тем, как её поклонники ссорятся за обладание ею. Лунёв любовался её здоровьем, красотой и весельем, но не раз осторожно замечал ей:
– Завертитесь вы, Верочка, в этой игре…
– А – так что? Туда мне и дорога… По крайней мере – с шиком. Взяла сколько умела, и – кончено!
– А – Павел?..
Её брови вздрагивали, и веселье исчезало.
– Отошел бы он от меня… Трудно ему со мной… Напрасно он мучается… Я уж не остановлюсь, – попала муха в патоку…
– Не любите его? – спросил Илья.
– Его нельзя не любить! – совершенно серьёзно возразила она. – Он – удивительный!
– Так – что же? Жили бы с ним…
– Это чтобы на шее у него седеть? Ведь он едва для себя хлеба добивается, как же ему содержать меня? Нет, мне его жалко…
– Смотрите, худа не было бы… – предупредил её Лунёв однажды.
– Ах, господи! – воскликнула Вера с досадой. – Ну как же быть? Неужели я для одного человека родилась? Ведь всякому хочется жить весело… И всякий живёт как ему нравится… И он, и вы, и я.
– Н-ну, это не так! – угрюмо и вдумчиво сказал Илья. – Живём мы… но только – не для себя…
– А для кого же?
– Вы вот – для купцов, для кутил разных…
– Я сама – кутила! – сказала Вера и весело расхохоталась.
Лунёв уходил от неё с грустью. Павла он встречал за это время раза два, но мельком. Заставая товарища у Веры, Павел хмурился, злился. Он сидел при Лунёве молча, стиснув зубы, и на его худых щеках загорались красные пятна. Илья понимал, что товарищ ревнует его, и ему это было приятно. Но в то же время он ясно видел, что Грачёв влез в петлю, из которой вряд ли вывернется без ущерба для себя. И, жалея Павла, а ещё больше Веру, он перестал ходить к ней. С Олимпиадой он вновь переживал медовый месяц. Но и сюда врывался холодок, от которого у Ильи щемило сердце. Иногда среди разговора он вдруг угрюмо задумывался. Тогда Олимпиада говорила ему ласковым шёпотом:
– Милый! А ты не думай… Мало на свете людей, у которых руки-то чистенькие…
– Вот что, – сухо и серьёзно отвечал ей Лунёв, – прошу я тебя, не заводи ты со мной разговора об этом! Не о руках я думаю… Ты хоть и умная, а моей мысли понять не можешь… Ты вот скажи: как поступать надо, чтобы жить честно и безобидно для людей? А про старика молчи…
Но она не умела молчать о старике и всё уговаривала Илью забыть о нём. Лунёв сердился, уходил от неё. А когда являлся снова, она бешено кричала ему, что он её из боязни любит, что она этого не хочет и бросит его, уедет из города. И плакала, щипала Илью, кусала ему плечи, целовала ноги, а потом, в исступлении, сбрасывала с себя одежду и, нагая стоя перед ним, говорила:
– Али я не хороша? Али тело у меня не красивое?.. Каждой жилочкой люблю тебя, всей моей кровью люблю, – режь меня – смеяться буду…
Голубые глаза её темнели, губы жадно вздрагивали, и грудь, высоко поднимаясь, как бы рвалась навстречу Илье. Он обнимал её, целовал, сколько силы хватало, а потом, идя домой, думал: «Как же она, такая живая и горячая, как она могла выносить поганые ласки старика?» И Олимпиада казалась ему противной, он с отвращением плевал, вспоминая её поцелуи. Однажды, после взрыва её страсти, он, пресыщенный ласками, сказал ей:
– А ведь с той поры, как я старого чёрта удушил, ты меня крепче любить стала…
– Ну да, – а что?
– Та-ак. Смешно мне подумать… есть эдакие люди… им тухлое яйцо – слаще свежего кажется, а иные любят съесть яблоко, когда оно загнило… Чудно!..
Олимпиада взглянула на него мутными глазами, лениво улыбнулась и не ответила.
Как-то раз, когда Илья, придя из города, раздевался, в комнату тихо вошёл Терентий. Он плотно притворил за собою дверь, но стоял около неё несколько секунд, как бы что-то подслушивая, и, тряхнув горбом, запер дверь на крюк. Илья, заметив всё это, с усмешкой поглядел на его лицо.
– Илюша! – вполголоса сказал Терентий, садясь на стул.
– Ну?
– Развелись тут про тебя разные слухи… Нехорошо говорят…
И горбун тяжело вздохнул, опустив глаза.
– А как, примерно? – спросил Илья, снимая сапоги.
– Да… кто – что… Одни – будто ты к делу этому коснулся… Купца-то задавили… Другие – будто фальшивой монетой промышляешь ты…
– Завидуют, что ли? – спросил Илья.
– Ходят сюда разные… подобные тайной полиции… вроде как бы сыщиков… И всё Петруху расспрашивают про тебя…
– Ну и пусть стараются, – равнодушно сказал Илья.
– Это – конечно. Что нам до них, коли мы за собой никакого греха не знаем?
Илья засмеялся и лёг на постель.
– Теперь они уже перестали… не являются! Только – сам Петруха начал… – смущённо и робко говорил Терентий. – Ты бы, Илюша, на квартирку куда-нибудь съехал – нашёл бы себе комнатёнку и жил?.. А то Петруха говорит: «Я, говорит, тёмных людей в своём доме не могу терпеть, я, говорит, гласный человек…»
И, предвкушая свободу, Яков смачно щёлкнул языком. Лунёв посмотрел на него с сожалением и сказал с усмешкой:
– Верно говорится, что глупому чаду – морковку надо, а дай хлеба ему – не подставит суму. Эх ты! Не придумаю я, как жить будешь?
Яков насторожился, выкатил глаза и быстрым шёпотом поведал:
– Я думал про это! Прежде всего надо устроить порядок в душе… Надо понять, чего от тебя бог хочет? Теперь я вижу одно: спутались все люди, как нитки, тянет их в разные стороны, а кому куда надо вытянуться, кто к чему должен крепче себя привязать – неизвестно! Родился человек – неведомо зачем; живёт – не знаю для чего, смерть придёт – всё порвёт… Стало быть, прежде всего надо узнать, к чему я определён… во-от!..
– Эк ты въелся в эти рассуждения твои, – напряжённо сказал Лунёв. – И какой в них толк?
Он чувствовал, что теперь тёмные речи Якова задевают его сильнее, чем прежде задевали, и что эти слова будят в нём какие-то особые думы. Ему казалось, что кто-то чёрный в нём, тот, который всегда противоречил всем его простым и ясным мечтам о чистой жизни, теперь с особенной жадностью вслушивается в речи Якова и ворочается в душе его, как ребёнок в утробе матери. Это было неприятно Илье, смущало его, казалось ему ненужным, он избегал разговоров с Яковом. Но отвязаться от товарища было нелегко.
– Какой толк? Самый простой. Без этого – как без огня.
– Ты, Яков, вроде старика, – скушно с тобой. И свинья ищет удачи, а человек – тем паче, – как говорится.
После этих разговоров он чувствовал себя так, точно много солёного поел: какая-то тяжкая жажда охватывала его, хотелось чего-то особенного. К его тяжёлым, мглистым думам о боге примешивалось теперь что-то ожесточённое, требовательное.
«Всё видит, а – допускает!..» – думал он хмуро, чувствуя, что душа его заплуталась в неразрешимом противоречии. Шёл к Олимпиаде и в её объятиях прятался от своих дум, тревог.
Изредка посещал он и Веру. Весёлая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказывала Илье о кутежах с богатыми купчиками, с чиновниками и офицерами, о тройках, ресторанах, показывала подарки поклонников: платья, кофточки, кольца. Полненькая, стройная, крепкая, она с гордостью хвасталась тем, как её поклонники ссорятся за обладание ею. Лунёв любовался её здоровьем, красотой и весельем, но не раз осторожно замечал ей:
– Завертитесь вы, Верочка, в этой игре…
– А – так что? Туда мне и дорога… По крайней мере – с шиком. Взяла сколько умела, и – кончено!
– А – Павел?..
Её брови вздрагивали, и веселье исчезало.
– Отошел бы он от меня… Трудно ему со мной… Напрасно он мучается… Я уж не остановлюсь, – попала муха в патоку…
– Не любите его? – спросил Илья.
– Его нельзя не любить! – совершенно серьёзно возразила она. – Он – удивительный!
– Так – что же? Жили бы с ним…
– Это чтобы на шее у него седеть? Ведь он едва для себя хлеба добивается, как же ему содержать меня? Нет, мне его жалко…
– Смотрите, худа не было бы… – предупредил её Лунёв однажды.
– Ах, господи! – воскликнула Вера с досадой. – Ну как же быть? Неужели я для одного человека родилась? Ведь всякому хочется жить весело… И всякий живёт как ему нравится… И он, и вы, и я.
– Н-ну, это не так! – угрюмо и вдумчиво сказал Илья. – Живём мы… но только – не для себя…
– А для кого же?
– Вы вот – для купцов, для кутил разных…
– Я сама – кутила! – сказала Вера и весело расхохоталась.
Лунёв уходил от неё с грустью. Павла он встречал за это время раза два, но мельком. Заставая товарища у Веры, Павел хмурился, злился. Он сидел при Лунёве молча, стиснув зубы, и на его худых щеках загорались красные пятна. Илья понимал, что товарищ ревнует его, и ему это было приятно. Но в то же время он ясно видел, что Грачёв влез в петлю, из которой вряд ли вывернется без ущерба для себя. И, жалея Павла, а ещё больше Веру, он перестал ходить к ней. С Олимпиадой он вновь переживал медовый месяц. Но и сюда врывался холодок, от которого у Ильи щемило сердце. Иногда среди разговора он вдруг угрюмо задумывался. Тогда Олимпиада говорила ему ласковым шёпотом:
– Милый! А ты не думай… Мало на свете людей, у которых руки-то чистенькие…
– Вот что, – сухо и серьёзно отвечал ей Лунёв, – прошу я тебя, не заводи ты со мной разговора об этом! Не о руках я думаю… Ты хоть и умная, а моей мысли понять не можешь… Ты вот скажи: как поступать надо, чтобы жить честно и безобидно для людей? А про старика молчи…
Но она не умела молчать о старике и всё уговаривала Илью забыть о нём. Лунёв сердился, уходил от неё. А когда являлся снова, она бешено кричала ему, что он её из боязни любит, что она этого не хочет и бросит его, уедет из города. И плакала, щипала Илью, кусала ему плечи, целовала ноги, а потом, в исступлении, сбрасывала с себя одежду и, нагая стоя перед ним, говорила:
– Али я не хороша? Али тело у меня не красивое?.. Каждой жилочкой люблю тебя, всей моей кровью люблю, – режь меня – смеяться буду…
Голубые глаза её темнели, губы жадно вздрагивали, и грудь, высоко поднимаясь, как бы рвалась навстречу Илье. Он обнимал её, целовал, сколько силы хватало, а потом, идя домой, думал: «Как же она, такая живая и горячая, как она могла выносить поганые ласки старика?» И Олимпиада казалась ему противной, он с отвращением плевал, вспоминая её поцелуи. Однажды, после взрыва её страсти, он, пресыщенный ласками, сказал ей:
– А ведь с той поры, как я старого чёрта удушил, ты меня крепче любить стала…
– Ну да, – а что?
– Та-ак. Смешно мне подумать… есть эдакие люди… им тухлое яйцо – слаще свежего кажется, а иные любят съесть яблоко, когда оно загнило… Чудно!..
Олимпиада взглянула на него мутными глазами, лениво улыбнулась и не ответила.
Как-то раз, когда Илья, придя из города, раздевался, в комнату тихо вошёл Терентий. Он плотно притворил за собою дверь, но стоял около неё несколько секунд, как бы что-то подслушивая, и, тряхнув горбом, запер дверь на крюк. Илья, заметив всё это, с усмешкой поглядел на его лицо.
– Илюша! – вполголоса сказал Терентий, садясь на стул.
– Ну?
– Развелись тут про тебя разные слухи… Нехорошо говорят…
И горбун тяжело вздохнул, опустив глаза.
– А как, примерно? – спросил Илья, снимая сапоги.
– Да… кто – что… Одни – будто ты к делу этому коснулся… Купца-то задавили… Другие – будто фальшивой монетой промышляешь ты…
– Завидуют, что ли? – спросил Илья.
– Ходят сюда разные… подобные тайной полиции… вроде как бы сыщиков… И всё Петруху расспрашивают про тебя…
– Ну и пусть стараются, – равнодушно сказал Илья.
– Это – конечно. Что нам до них, коли мы за собой никакого греха не знаем?
Илья засмеялся и лёг на постель.
– Теперь они уже перестали… не являются! Только – сам Петруха начал… – смущённо и робко говорил Терентий. – Ты бы, Илюша, на квартирку куда-нибудь съехал – нашёл бы себе комнатёнку и жил?.. А то Петруха говорит: «Я, говорит, тёмных людей в своём доме не могу терпеть, я, говорит, гласный человек…»