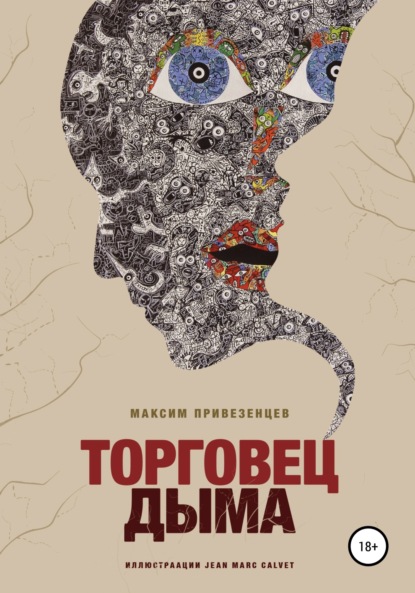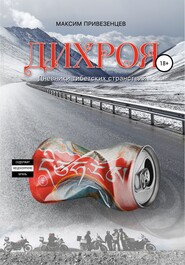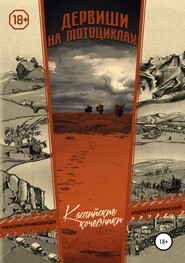По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торговец дыма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1498 г.
Дорога в Германию отняла у Марио Варгаса немало времени и сил. Последний переход из Бадена в Нюрнберг севильский банкир буквально изнывал от невозможности выкурить любимую трубку. Он, безусловно, мог рискнуть и сделать это, не дожидаясь окончания путешествия, но Варгас не желал зря испытывать судьбу. Табак пока что оставался тайным увлечением севильской знати, причем далеко не каждый решался вдыхать дым этого чудесного растения. Многие все еще сомневались, что церковь одобрит столь причудливое времяпровождение.
Марио улыбнулся, представив, как священник, отвечая на вопрос о ритуале курения, тактично скажет: «Лучше потратьте это время на покаяние и молитву».
А потом к человеку, задавшему вопрос, явятся дознаватели инквизиции – как уже вышло с моряком Колумба, Торресом. Вернувшись на родину, бедняга в открытую выращивал дома табако, курил его назло ворчливой жене, а та на исповеди пожаловалась на «богомерзкую привычку» мужа местному священнику.
Тайна исповеди – бесценный источник знаний для инквизиции. Благодаря этому нехитрому правилу Торрес довольно скоро оказался в тюрьме за «дьявольское дымопускание», и с тех пор его судьба покрылась пеплом неизвестности.
Варгас повернулся к окну экипажа и тяжело вздохнул.
Людям свойственно цепляться за прошлое и страшиться будущего, ведь будущее неопределенно, а прошлое понятно и доступно. Все новое сиюминутно встречается в штыки. Марио не сомневался, что лет через десять курить табако будет если не вся Кастилия, то, как минимум, вся Севилья. Да, пока люди боятся. Но Варгас знал: уж если кто-то решался попробовать чудесное растение, то в секретном списке банкира появлялась новая запись примерно следующего содержания:
«А. Мартинез – 40 унций т., вт.».
Проблема была только в недостатке табако.
После второй экспедиции Христофор до самого потолка заполнил два чулана Варгаса мешками с ароматными листьями, но оба, и путешественник, и банкир, понимали, что запасы чудесного растения небезграничны. Колумб обещал, что в следующий раз привезет еще больше – но достаточно ли, чтобы удовлетворить интересы всех инициированных дымной привычкой курильщиков?
Вдобавок Марио не покидало ощущение, что нынешняя экспедиция станет последней – учитывая, как бесславно закончилась вторая.
Увы и ах, но доверия со стороны короны к Христофору быстро сошло на нет после первого иллюзорного успеха. Тот, первый триумф уже не будоражил воображение правителей пошлым блеском дешевых туземских побрякушек. Теперь им нужны были аргументы весомей, чем толпа ряженых рабов.
И с этим у Колумба в прошлый раз возникли проблемы, которые едва не поставили крест на колонизации индейцев, множественных регалиях и титулах..
Единственное, что спасло кампанию Христофора – это его неожиданное и, что уж лукавить, опасное предложение превратить открытые им земли в каторгу: отправлять туда осужденных воров, грабителей и душегубов, сокращая им срок заключения вдвое. Эта идея так понравилась Фредерику и Изабелле, что они решили дать Колумбу еще один шанс. Дополнив, однако, предложение Колумба своим: также ссылать в новые земли иудеев, сопротивлявшихся переходу в лоно святой церкви.
Зная об этом нюансе, Варгас чувствовал себя неуютно и искренне переживал за друга, который, с трюмами, переполненными изгоями короны, снова отправился на край света.
Возможно, поэтому Марио с радостью откликнулся на приглашение Альбрехта Дюрера посетить его мастерскую в Нюрнберге. Впрочем, справедливости ради, тон у письма был настолько странный, что Варгас в любом случае сподобился бы на эту поездку. Читая пляшущие строки послания от немецкого мастера, Марио невольно представлял себе бледного Дюрера, сидящего в полумраке мастерской за простым грубым столом. Перед художником стоит канделябр, свечи которого истекают воском, пока Альбрехт отчаянно собирает из разрозненных слов короткие предложения.
Марио знал, что Дюрер трудится истово, увлеченно, может весь день провести за работой, не говоря ни с кем, не завтракая и не обедая, упасть и уснуть прямо на полу. Искусство питало его и одновременно убивало.
Судя по пляшущему почерку и общему тону письма, сейчас Альбрехт быть ближе к смерти, чем когда-либо еще.
Что же случилось, думал Марио, глядя в окно на приближающийся Нюрнберг. Что выбило его из колеи? Возможно, испытал первый настоящий творческий кризис и теперь мнит себя бездарностью, которая не должна больше создавать гравюр?
Место, где Марио должен был получить ответ, уже показалось на горизонте. Глядя на зыбкие контуры домов, Варгас с нетерпением предвкушал, как будет смотреть на изможденное лицо юного гения через табачный дым.
Марио остановился в гостином доме в квартале от мастерской Альбрехта. Художник истово упрашивал Варгаса останавливаться у него, но банкир всегда игнорировал эти предложения – он не хотел смущать самого Дюрера и, в особенности, его супругу, Агнес, которая не жаловала гостей мужа, ведь они отвлекали его от работы. В отличие от Альбрехта, его дражайшая супруга нисколько не сомневалась в таланте мужа. Возможно, не осознавала, насколько он хорош, поскольку не слишком разбиралась в искусстве… Но, вероятно, Агнес это и не требовалось.
Главным ее достоинством было умение продавать гравюры мужа и считать денежки. Куда как хуже, если бы Агнес такого таланта не имела, и им с Альбрехтом пришлось бы питаться красками или за ломанный грош сбывать работы художника на растопку печей у более успешных соседей.
Выкурив трубку и хорошенько пообедав, Марио лег пораньше, чтобы выспаться с дальней дороги. В ту ночь ему приснился тревожный сон: как он входит в окутанную дымом мастерскую художника и обнаруживает Албрехта на сваленных в кучу одеждах окутанным языками алого пламени. Причем в сновидении Варгаса Дюрер горел не так, как, вероятно, это выглядело бы в жизни реальной: он не кричал, не пытался сбить огонь – лишь с равнодушным видом смотрел в потолок, медленно превращаясь в пепел, словно сигаро, упавшая в костер.
От огненных видений Марио проснулся в холодном поту посреди ночи и лишь ближе к рассвету вновь забылся сном.
Утром, в смятенном ночными видениями расположении духа, Варгас отправился в мастерскую Дюрера и, подойдя к двери, нерешительно в нее постучал.
Некоторое время ничего не происходило. Когда же дверь приоткрылась, и наружу робко выглянул Дюрер, Варгас с нескрываемым облегчением выдохнул.
Губы Альбрехта растянулись в неуверенной улыбке.
– Марио… Марио! Это же ты!
– Неужто я прибыл скорей, чем добралось мое письмо? – на всякий случай удивился Варгас.
– Нет-нет, я получил… но я не ждал тебя именно сегодня! Не ждал так скоро… Но входи же, входи скорей!
Альбрехт отступил, и Варгас переступил через порог.
Одновременно с этим мрак, царивший внутри, поглотил Марио, окружил его скорлупой полутьмы, отрезав его от солнечного света, который сопровождал банкира по дороге в мастерскую. Свежесть сменилась затхлостью; ароматы красок, жженного дерева и несвежих простыней разжигали смятение.
Если бы случайный вор забрался в мастерскую Альбрехта, он бы, вероятно, крайне быстро ее покинул. Мало того, что уже прихожая казалась совершенно бедной, неухоженной и темной. Куда страшней было то, что таилось в самой мастерской.
– Что это? – только и спросил Варгас.
Он стоял в дверном проеме, не в силах заставить себя пройти дальше. Вдоль стен, словно окна в неведомое и страшное ничто, выстроились гравюры, которые заставили Марио оцепенеть.
– «Откровения Иоанна Богослова», – смущенно буркнул Альбрех, подходя к первому окну-гравюре. – Всего пятнадцать работ. Я попытался отобразить на них самое значимое из Нового Завета, посвященное Иоанну. Здесь Мадонна на лунном серпе является к Иоанну. Это экспозиция, а дальше начинается… апокалипсис.
– Апокалипсис? – переспросил Марио, чтобы сказать хоть что-то.
Наверное, более емко охарактеризовать увиденное на работах Дюрера не представлялось возможным. С гравюр на гостя из далекой Севильи недружелюбно взирали вестники и вершители конца света – четыре всадника апокалипсиса, ангелы смерти, семиглавый дракон… Альбрехт настолько кропотливо проработал каждую деталь, что у Марио невольно возникла мысль – а что, если эти образы в следующую минуту оживут и начнут Великий Суд?..
– Так что скажешь, мой друг? – спросил Дюрер. – Как тебе мой взгляд на апокалипсис?
Он говорил так глухо и тихо, будто находился на другом конце комнаты, хотя на самом деле стоял в шаге от друга.
– Это… потрясающе, Альбрехт, – с трудом ответил Марио. – Но что побудило тебя сделать эти гравюры? В каждой из них сквозит боль и тревожное смирение. Боюсь представить, что происходило внутри тебя, когда ты их писал!
– А я сначала боялся вспоминать. – Альбрехт, говоря, смотрел куда-то в сторону, будто в углу мастерской находились невидимые зрители, внимающие каждому его слову. – Но теперь безумно сожалею, что не смогу заново пережить и толики тех чувств, которые вели мою руку с резцом, штрих за штрихом… штрих за штрихом…
Он начал беспорядочно жестикулировать, и Марио обратил внимание на пальцы Альбрехта, покрытые мелкими шрамами – видимо, полученными во время работы. Каждая гравюра Дюрера была следом – отметиной таланта мастера в податливой текстуре дерева – но и каждый шедевр оставил свой след на творце, обратным напряжением скрупулезного труда врезавшись ножом в его плоть.
– Такое чувство, что я проваливался в некое безвремье, междумирье, и там обитал, среди моих героев, и они все шептали, шептали вразнобой, какими себя видят. – Альбрехт положил руку на гравюру, отражавшую римскую пытку Иоанна Богослова. – А я выдергивал из этих клубков слов те звуки, которые отзывались во мне, и переносил их на доски. Штрих за штрихом… А потом я закончил, и все будто прояснилась, закрылась какая-то странная дверь, за которой находилось мое междумирье с моими героями, они остались там, а я – тут, один, совсем один…И я вдруг понял, что их апокалипсис совпал с моим, их больше нет, но и меня тоже…
– Что ты такое говоришь, Альбрехт? – поразился Марио. – Ты же вот он, стоишь передо мной?
Губы Дюрера тронула улыбка.
– Я здесь и одновременно меня нет. Мой личный маленький апокалипсис, Марио. Я больше не могу работать. Если Агнес узнает, мне несдобровать.
Варгас стоял и удивленно смотрел на художника. Он не был в отчаянии, нет. Возможно, вначале оно накрывало его с головой и на несколько дней просто отрезало от реальности, но после ушло, оставив лишь дымку меланхолии с горьким привкусом сожаления, в которой Альбрехт пребывал и поныне. Минутная вспышка эмоций, из-за яркости воспоминаний, а потом – холодная констатация факта: художник в нем мертв.
– Давай присядем? – предложил Варгас.
– Как хочешь, – повел плечом Дюрер.