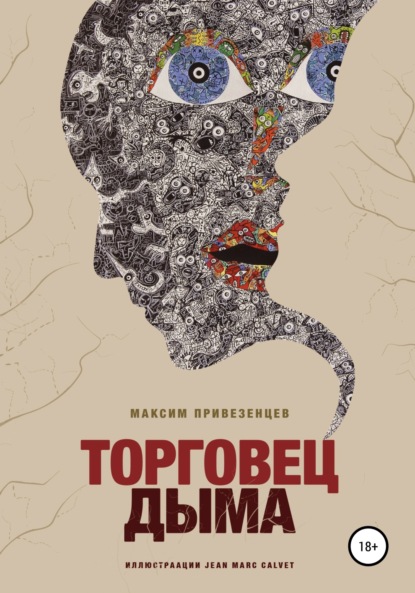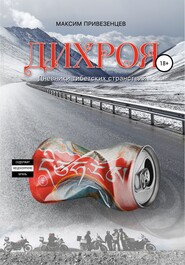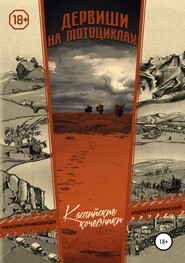По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торговец дыма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подумать только, а ведь когда-то этот мерзавец Рухес гостил у меня дома! – воскликнул художник. – Причем дважды! Видел бы ты Агнес, когда она узнала, кто именно скопировал мои гравюры!.. Будь она здесь, видит Бог, она бы просто… просто убила бы этого негодяя на месте!
– В мире, где торжествует справедливость, жадность стала бы кратчайшим путем к бедности, – грустно заметил Марио.
– Как жаль, что в нашем мире торжествует жадность! – в сердцах сказал Альбрехт.
Несмотря на то, что Альбрехт явно находился не в лучшем расположении духа, наблюдать за ним Марио было приятно. Во-первых, они не виделись около двух лет. А, во-вторых, меланхолия, которая губила Дюрера, с годами практически сошла на нет или, по меньшей мере, стала почти незаметна. Из субтильного напуганного жизнью юноши он превратился в уверенного в себе мужчину, хотя телосложение его практически не претерпело изменений. Да, руки немного окрепли, спина выпрямилась, но главную метаморфозу хранили в себе глаза.
Некогда затянутые маревом сизого дыма тоски, теперь они горели жизнью, и это несказанно радовало Марио.
Выплеснув гнев, связанный с несправедливым решением судьи, художник пригубил вина из бокала. Варгас воспользовался заминкой и спросил:
– Ну что, может, наконец расскажешь, как ты сумел разоблачить Рухеса?
– Тому виной, мой друг, все та же пресловутая жадность, – с кривой улыбкой ответствовал Альбрехт. – Прежде всего я нанял одного севильского пройдоху, чтобы поспрашивал, где можно приобрести гравюры известного Нюрнбергского мастера. То, что ищу поддельного Дюрера, я, разумеется, не уточнял. – Художник сморщился в негодовании и отпил вина. – Денег пообещал выше, чем умеренно, но не слишком – чтобы не спугнуть. В итоге пройдоха свел меня с некоей Мартой, которая и продала мне еще одну мою-немою картину Святого Иеронима в келье. Стиль был идентичен фальшивкам, которые я демонстрировал в твой приезд в Нюрнберг…
Марио уважительно хмыкнул – он и подумать не мог, что Альбрехт обладает таким недюжинным умом. Впрочем, банкир тут же предположил, что идеи могли исходить от севильского пройдохи, который явно поднаторел в скупке и продаже краденных вещей и фальшивок.
А Дюрер тем временем продолжал:
– Поняв, что это тот же самый мошенник, я попросил пройдоху разузнать про эту Марту. Выяснилось, что она является кузиной Гарсии Рухеса… а не его супругой, как я сначала предположил, решив ненароком, что мерзавец решил повторить мою жизнь до деталей! И после этого я вспомнил, что Гарсия дважды бывал у меня проездом и много расспрашивал об искусстве работы с медью.
– Надо же. И что ты предпринял? Подал в суд?
– О, не сразу. Сначала мой слуга наведался домой к Гарсии и застал его в мастерской, среди гравюр, очень похожих на мои собственные. Две из них он убедил продать якобы для своего хозяина – не спрашивай, за какие суммы, они даже тебя, уверен, повергнут в шок. Эти гравюры я впоследствии передал суду для сравнения с моими. И они, как видишь, признали факт копии… но ничего не стали делать. Возможно, потому, что Рухес отдал им полученный от меня гонорар. Такая вот злая ирония, мой друг.
Альбрехт снова выпил вина, а Марио, нахмурившись, пробормотал:
– История невероятная, признаться. Но ты, похоже, так и не смог узнать, кто пустил их в мой дом?
– Ты знаешь, я впоследствии отказался от этой мысли – когда узнал, что речь идет о Гарсии, – признался Альбрехт. – Если мне не изменяет память, во время его последнего визита в мою мастерскую я как раз работал над «Ведьмой». И, вполне возможно, что он украдкой скопировал ее, когда учился у меня мастерству.
– Каков негодяй, – только и сказал Варгас.
Дюрер усмехнулся, кивнул и, грохнув бокалом о стол, сказал:
– Ладно, пусть с ним, с Рухесом. Скажи лучше, что нового происходит у вас в Севилье? У тебя самого? Сколько мы не виделись? Два года? Три?
Торговец дыма лишь тяжело вздохнул. Со времен их последней встречи в Нюрнберге он погрузнел еще больше и обленился настолько, что в последнее время практически не покидал Севилью. Последним путешествием Марио стала поездка в Вальядолид, где Варгасу довелось в последний раз пообщаться с еще одним старым другом…
– Колумб умер, – негромко сказал банкир.
Дюрер, заслышав это, на несколько мгновений превратился в персонажа с одной из своих гравюр – сидел неподвижной, с бокалом в руке, и оторопело взирал на Варгаса.
– Как… – выйдя из оцепенения, прошептал художник. – Когда?
– Буквально две недели назад. Ты, верно, слышал, он был сильно болен…
Альбрехт закивал.
– И вот, примерно в середине мая его не стало. Я думал написать тебе, но быстро понял, что ты все равно скоро окажешься в Севилье, и мы с тобой поговорим об этом, так или иначе.
– Я понял, – произнес Альбрехт. – Прискорбно слышать.
– Увы, это было, пожалуй, неминуемо, – вздохнул банкир. – Перед четвертой экспедицией он по-прежнему считал себя великим первооткрывателем, хотя давно уже не совершал путешествий более продолжительных, чем от дома до ближайшего трактира. Притом обратная дорога после нескольких кувшинов вина вполне могла сравниться со странствием к далеким берегам Нового Света.
– Все так, – кивнул Дюрер. – Когда мы виделись с ним в последний раз – тогда, у тебя в кабинете, он показался мне… призраком.
Марио медленно кивнул. Примерно те же мысли посещали банкира, когда он сидел у ложа Христофора и с болью в сердце смотрел на умирающего старого друга. Колумб уже ничем не походил на того неуемного мечтателя, с которым банкир в свое время отправился в Нюрнберг. Четыре экспедиции в Новый Свет начисто смыли с лица усталого путешественника задор былой жизни. А ведь Марио хорошо помнил, с каким воодушевлением его друг рассматривал карту Тосканелли и мечтал найти короткий путь в Индию.
В те мгновения Христофор напоминал ребенка, который рассматривал новую желанную игрушку. Сейчас же на кровати перед Марио лежал немощный старик. Высохшие бледные пальцы путешественника вцепились в простынь – так утопающий в море цепляется за обломок мачты, чтобы не пойти на дно.
– На его похоронах были только я и слуги, – дрожащим от переизбытка эмоций голосом сказал Варгас. – И, признаться, такая бесславная кончина представляется мне величайшей несправедливостью. Девять лет назад жители Арагона и Кастилии встречали процессию во главе с Христофором овацией. А умирал Колумб, по сути, в одиночестве.
– Это печально, но, увы, объясним, – заметил Дюрер. – Уж простите, но он был совершенно несносен в нашу последнюю встречу.
– Тому виной множество обстоятельств, – довольно холодно заметил Марио.
– Которые, увы, теперь не важны, – со вздохом добавил Дюрер. – Прости, если мои слова обидели тебя или огорчили. Скажи, если это не тайна… о чем вы говорили с ним в последние дни?
– Уже нет, – со вздохом ответил Варгас. – Разбитый болезнью, Христофор особенно много сетовал на судьбу, которая так и не позволила ему обогатить Арагон и Кастилию и золотыми буквами вписать свое имя в мировую историю – как он, безусловно, мечтал. Досталось и карте Тосканелли, оказавшейся практически бесполезной. Да даже… – Марио понизил голос. – Даже их Величествам Фердинанду и Изабелле, за их нетерпеливость и переменчивость.
– Да, не представляю даже, до чего это обидно – совершить путешествие всей жизни, смертельно в нем заболеть, – пробормотал Дюрер, – а после, умирая, осознать, что остров мечты оказался… допустим, пятном от пролитого на карту вина.
– Пусть так. Но, все же, путешествия были нужны Христофору, как воздух, – заметил Марио. – Здесь, на большой земле, он изнывал от бесполезности – и моментально расцветал, когда появлялся хоть малейший шанс отправиться навстречу неизведанному. К очередным далеким берегам, окутанным дымом загадочности, в надежде, что они окажутся раем обетованным. Когда он слег в кровать, стало ясно, что последний шанс прославиться упущен, жизнь кончена, и новых путешествий уже не предвидится. Потому, возможно, он и продержался так недолго.
Утомленный рассказом, Варгас пригубил вина, а Дюрер, рассеянно глядя перед собой, произнес:
– Наверное, это прозвучит странно, но, мне кажется, после случая с Рухесом, я понимаю Колумба лучше, чем прежде. Когда ты всю жизнь с переменным успехом борешься с тьмой всемирного безразличия, проиграть ей – ужаснейший финал. А если на службе у тьмы оказываются еще и мошенники, которые не прочь присвоить себе чужой, пусть незначительный, но успех, сражаться с забвением становится еще трудней. Лишиться всех титулов, лишиться заслуженной славы – разве это не худший исход для путешественника-первооткрывателя?
– А для творца – какой наихудший страх? – спросил Марио. – То, что на его имени наживается кто-то другой? Что ты знаешь о фальшивках, но ничего не можешь сделать, чтобы остановить мошенников?
– Это все, бесспорно, разочаровывает, но все же не настолько, – с горькой усмешкой сказал Дюрер. – На самом деле, больше всего я боялся того, что меня запомнят не по моим настоящим работам, а по подделкам Рухеса, подписанным моими инициалами. И по ним же будут судить о том, каким художником я был. Этот страх едва не вверг меня обратно в меланхолию – ведь если все, что ты делаешь, неважно, зачем это делать?
– Как трудно мне понять вас, людей художественного ремесла, – мягко улыбнувшись, сказал Марио. – Мы, банкиры, в отличие от вас, не хотим, чтобы наши имена становились частью истории. Мы делаем свою работу и признания совершенно не ищем.
– Агнес похожа на тебя, – сказал Дюрер. – Она тоже не ищет славы. Ей важны лишь деньги. И это не плохо, не хорошо – это просто есть. Чья-то цель – выгода, а моя – открыть свой внутренний мир людям и сохранить себя в моих гравюрах, поделиться частичкой души, если позволишь. Если же моими будут считаться гравюры Рухеса или иных мошенников, значит, и мой истинный мир люди никогда не знают. Понимаю, как мудрено это звучит, но проще выразиться не могу.
– И не нужно, – покачал головой Марио. – Ведь эта реакция – она тоже часть твоего внутреннего мира. И я очень горд, что ты, мой друг, делишься этим миром со мной.
Он поднял бокал, и Дюрер последовал его примеру. Со звоном их посуда встретилась над столом.
Они не просидели в трактире долго – усталость от судебных тяжб взяла свое. Попрощавшись с Дюрером и пообещав встретиться с ним назавтра, Варгас отправился домой, где с удовольствием раскурил трубку и заполнил дневник, аккуратно записав в него свою интерпретацию событий ушедшего в небытие дня. В ходе работы Марио посетила любопытная мысль – не мог ли Рухес работать с Колумбом по тому же принципу, по которому сам Варгас работал с Альбрехтом, то есть обменивая гравюры на табако? В принципе, идея сбывать гравюры в Новом Свете принадлежала именно Христофору…
Хоть это была лишь смелая догадка, не имеющая под собой никакой почвы, Марио пообещал себе вернуться к ней завтра и еще раз хорошенько все обдумать.
Убрав дневник и писчие принадлежности в стол, Варгас отправился ко сну. С точки зрения нынешнего, тучного, Марио, день выдался богатым на события и очень утомительным.
И тем странней, что ночью Марио едва смог уснуть, а когда все же погрузился в сон, ему приснился майский визит в Вальядолид, к умирающему Колумбу. Варгас снова сидел подле кровати на стуле и взирал на старого друга.