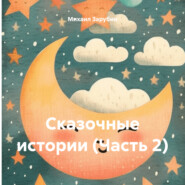По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Илимская Атлантида. Собрание сочинений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тебе-то зачем турнепс?
– Давай зайдем, хоть турнепсу похряпаем… Он сладкий. Так есть хочется…
– Нашел еду.
– Мать меня наказала, теперь целый день кормить не будет.
– Давай тогда к нам. Моя мать найдет чем покормить.
– Увидят, что я к вам зашел, еще больше схлопочу от своих.
– Ладно, зайдем на скотный двор, только я этот турнепс есть не собираюсь. Его же для скота выращивают.
– Все-таки еда, а то у меня даже живот разболелся.
– Там скотники, Петька, и доярки не пустят. Лучше я тебе кусок хлеба из дома вынесу.
– Если не пустят – уйдем.
Петькина семья перебралась в деревню недавно. Откуда, Иван не запомнил, но то, что издалека – точно. Дядя Вася, кузнец, к которому они часто забегали, узнав, откуда Петька, подивился: в войну их полк проходил через этот город. Значит, дело было не в Сибири, значит, переселилась Петькина семья точно издалека…
Мама объяснила, что семью Петьки отправили сюда в ссылку, так как отец его был «власовец». Кто такие «власовцы», Иван не знал, но по разговорам взрослых слышал, что воевали они на стороне фашистов. Многих из них после войны отправили в лагеря, в ссылку, а кое-кого и расстреляли. «Наша деревня такая замечательная, почему она может быть ссылкой?», – огорченно думал Иван.
– Петь, а ты не боишься? К скотному двору дорога идет мимо Черепановки.
– Боюсь, Иван, я кладбище не люблю…
– Но так короче, а по лесу долго еще будем мыкаться.
– А можно я буду держать твою руку?
– Можно. – Друг протянул Петьке ладонь.
Рядом с низкорослым Петькой Иван казался старшим, выглядел уже не мальчишкой, а подростком. Мать толковала, что Иван весь в отцову породу, а от нее, от матери, только голубые глаза да покладистый характер. Что связало таких, не похожих друг на друга ребят, один Господь знает. Петька дорожил этой дружбой, гордился. Он привязался к Ивану, как собачонка, беспрекословно слушался, всегда был готов выполнить любое его поручение или просьбу.
Учеба давалась Петьке трудно. Отвечая на вопросы, даже самые простые, он сжимался, съеживался, теребя низ старенького свитера, говорил тихо, не поднимая глаз. Его мучили страхи: боялся он грозы, темноты, высоты, одиночества. Боялся оставаться дома один. Иногда приключалась такая трясучка, что полночи не мог заснуть, без конца бегая в туалет. Дома его били постоянно, особенно мать. За все. И за свою, как считала, неудавшуюся жизнь, и за маленький рост сына, и за то, что родился нежеланным, и за то, что надо и ему выделять кусок хлеба, которого всегда не хватало. Все это происходило на глазах Ивана, и он поневоле сравнивал свою жизнь и горемычное существование Петьки. Его-то мать любила и даже при своих скудных заработках умудрялась сделать жизнь своей семьи вполне сносной. Рядом с мамой Иван всегда находил покой и утешение от своих детских обид и невзгод. Ее внимание и забота были так ему нужны! Вечерами, хлопоча по дому, мать рассказывала Ивану о том, что произошло за день в деревне, и он рано начал понимать жизнь такой, как она есть – с заботами, нуждами и редкими радостями. Жизнь его сверстников во многом была не похожа на его собственную, и это удивляло мальчика. Он видел жестокое обращение родителей с детьми, равнодушие к ним, несправедливость. Все это существовало рядом, за стенкой. Конечно, он жалел Петьку, играл с ним, как со своим младшим братом. Они часто оставались у Ивана дома, и Петька всегда голодными глазами смотрел на хлеб и молоко. Иван давал другу поесть, тот заглатывал, не разжевывая, запивал молоком жадно и торопливо, будто боялся, что отберут. Он был вечно голодный, с тонкими синеватыми губами, землистым цветом лица, синяки не сходили с его тщедушного тела. Словно тюремная татуировка, они всегда были на нем. Один «пятак» поблекнет, тут же появлялся другой. Иван сторонился злющей Петькиной матери. Многим деревенским ребятам доставалось от своих родителей, их стегали, обычно, ремнем, за какую-нибудь подлую проделку. А вот так как Петьку, то пинком, то кулаком, а иной раз и палкой, в деревне своих детей никто не «воспитывал». Все кругом выказывали молчаливое неодобрение, но не вмешивались: так было заведено испокон веку. Между собой осуждали, а в глаза – никогда…
Черепановку миновали бего?м. Правда, это им казалось, что они бегут. На самом деле от усталости ребята едва ковыляли мимо крестов и пирамидок со звездами. Сколько раз Иван слышал, что мертвых не надо бояться.
– Бойся живых, – наставляла мама. Но, как только Иван оказывался возле кладбища, сердце начинало колотиться, мышцы напрягались, и хотелось пройти это место поскорее. Так было и в этот раз. Запыхавшись, ступили в огражденный забором скотный двор. Благо, ворота были открыты.
Возле больших ларей валялась куча турнепса. Коров еще не пригнали с пастбища, и вокруг ни души.
– Ну вот твой турнепс.
– А ножик?
– Держи.
Петька быстрыми движениями, как пацаны заостряют палки, стал чистить турнепс.
Иван открыл ларь.
– О, тут и картошка.
Петька заканючил:
– Иван, картошки бы пожарить. Давай, а! Это тебе не турнепс.
Ивану тоже захотелось запеченной в золе картошки.
– Ну давай, сварганим сейчас костерок.
Быстро развели огонь, дрова в поленнице рядом, у молоканки. Огонь резво сожрал сухие полешки, на их месте задышали жаром тлеющие головешки. Выбрав картошку, не крупную, но и не мелочь, Иван закопал ее в золу.
Стемнело. Друзьям давно не перепадало такого лакомства. Перекидывая с ладони на ладонь горячие, пачкающие сажей клубни, усердно дуя то на картофелину, то на пальцы, ребята вгрызались в ароматную мякоть, не обращая внимания, что горячая кожура обжигает руки и губы.
Тепло от костра, горячая картошка, тихий теплый вечер располагали к беседе.
– Иван, говорят: «счастливый – несчастный». А что такое счастье?
– Это когда все получается. В школе – одни пятерки, дома все хорошо, мать не болеет…
– А у меня счастливый день – это когда меня не бьют.
– А за что тебя бьют?
– Я и сам не знаю. За все. Чаще мать кидается.
– А отец?
– Он не отец. Мать родила меня, когда он на войне был. Иногда бьют за двойки. Вчера пару по арифметике принес, а решил пример, казалось, правильно. Училка по русскому вызвала к доске – стихотворение от страха вылетело из головы. Вторая двойка. Дома, конечно… Спина так болит. И жрать не дают второй день. Наверное, я совсем тупой, раз ничего не понимаю.
– Да брось ты, Петька, нет таких, чтобы совсем ничего не знали. Он думает о себе, что глупый, значит, он может рассуждать. Человек, даже очень ученый, не может знать все. Как это – все знать!
– Ты бы это моей матери рассказал.
– Она меня не послушает. Моя мама говорит, что дети не глупые, просто многого не знают. А когда растешь, учишься – ум развивается. Вот когда я вырасту, обязательно летчиком стану. В прошлом году нас за хорошую учебу прокатили на самолете. Мы поднялись высоко, наверное, около километра. Дома сверху такие маленькие, как игрушки, а до Качинской сопки – рукой подать. Хотя по земле сорок километров. Коровы – как букашки, а вверх посмотришь – жуть!. Не знаю, как, но я обязательно летчиком буду.
– А я хочу поваром…
– С тобой все ясно, – сочувственно вздохнул Иван.
Усталость, еда и тихая беседа сделали свое дело; друзья заснули, даже не подстелив охапку сена.
Разбудили их крики и яркий свет. Горела стена скотного двора. Толстые бревна полыхали, словно дрова в разгоревшейся печке.
Иван схватил Петьку, прижал к себе, не понимая, что случилось, зачем они здесь, и почему хлев объят огнем. Из деревни бежали с баграми и ведрами люди. Страх придавил ребят к земле, они не могли двинуться с места. Пылали бревна, трещал огонь, огромные его космы поднимались в небо. Ни дыма, ни копоти, только пламя. Огонь ужасал и завораживал. Казалось, что сам воздух воспламенился, далеко освещая окрестности. Потом пламя понемногу успокоилось, бревна уже не полыхали, а жарко тлели, перемигиваясь розовыми и оранжево-красными огоньками. Спрятавшийся в ворохе обгорелых головешек огонь доедало то, что еще осталось от скотного двора.
– Давай зайдем, хоть турнепсу похряпаем… Он сладкий. Так есть хочется…
– Нашел еду.
– Мать меня наказала, теперь целый день кормить не будет.
– Давай тогда к нам. Моя мать найдет чем покормить.
– Увидят, что я к вам зашел, еще больше схлопочу от своих.
– Ладно, зайдем на скотный двор, только я этот турнепс есть не собираюсь. Его же для скота выращивают.
– Все-таки еда, а то у меня даже живот разболелся.
– Там скотники, Петька, и доярки не пустят. Лучше я тебе кусок хлеба из дома вынесу.
– Если не пустят – уйдем.
Петькина семья перебралась в деревню недавно. Откуда, Иван не запомнил, но то, что издалека – точно. Дядя Вася, кузнец, к которому они часто забегали, узнав, откуда Петька, подивился: в войну их полк проходил через этот город. Значит, дело было не в Сибири, значит, переселилась Петькина семья точно издалека…
Мама объяснила, что семью Петьки отправили сюда в ссылку, так как отец его был «власовец». Кто такие «власовцы», Иван не знал, но по разговорам взрослых слышал, что воевали они на стороне фашистов. Многих из них после войны отправили в лагеря, в ссылку, а кое-кого и расстреляли. «Наша деревня такая замечательная, почему она может быть ссылкой?», – огорченно думал Иван.
– Петь, а ты не боишься? К скотному двору дорога идет мимо Черепановки.
– Боюсь, Иван, я кладбище не люблю…
– Но так короче, а по лесу долго еще будем мыкаться.
– А можно я буду держать твою руку?
– Можно. – Друг протянул Петьке ладонь.
Рядом с низкорослым Петькой Иван казался старшим, выглядел уже не мальчишкой, а подростком. Мать толковала, что Иван весь в отцову породу, а от нее, от матери, только голубые глаза да покладистый характер. Что связало таких, не похожих друг на друга ребят, один Господь знает. Петька дорожил этой дружбой, гордился. Он привязался к Ивану, как собачонка, беспрекословно слушался, всегда был готов выполнить любое его поручение или просьбу.
Учеба давалась Петьке трудно. Отвечая на вопросы, даже самые простые, он сжимался, съеживался, теребя низ старенького свитера, говорил тихо, не поднимая глаз. Его мучили страхи: боялся он грозы, темноты, высоты, одиночества. Боялся оставаться дома один. Иногда приключалась такая трясучка, что полночи не мог заснуть, без конца бегая в туалет. Дома его били постоянно, особенно мать. За все. И за свою, как считала, неудавшуюся жизнь, и за маленький рост сына, и за то, что родился нежеланным, и за то, что надо и ему выделять кусок хлеба, которого всегда не хватало. Все это происходило на глазах Ивана, и он поневоле сравнивал свою жизнь и горемычное существование Петьки. Его-то мать любила и даже при своих скудных заработках умудрялась сделать жизнь своей семьи вполне сносной. Рядом с мамой Иван всегда находил покой и утешение от своих детских обид и невзгод. Ее внимание и забота были так ему нужны! Вечерами, хлопоча по дому, мать рассказывала Ивану о том, что произошло за день в деревне, и он рано начал понимать жизнь такой, как она есть – с заботами, нуждами и редкими радостями. Жизнь его сверстников во многом была не похожа на его собственную, и это удивляло мальчика. Он видел жестокое обращение родителей с детьми, равнодушие к ним, несправедливость. Все это существовало рядом, за стенкой. Конечно, он жалел Петьку, играл с ним, как со своим младшим братом. Они часто оставались у Ивана дома, и Петька всегда голодными глазами смотрел на хлеб и молоко. Иван давал другу поесть, тот заглатывал, не разжевывая, запивал молоком жадно и торопливо, будто боялся, что отберут. Он был вечно голодный, с тонкими синеватыми губами, землистым цветом лица, синяки не сходили с его тщедушного тела. Словно тюремная татуировка, они всегда были на нем. Один «пятак» поблекнет, тут же появлялся другой. Иван сторонился злющей Петькиной матери. Многим деревенским ребятам доставалось от своих родителей, их стегали, обычно, ремнем, за какую-нибудь подлую проделку. А вот так как Петьку, то пинком, то кулаком, а иной раз и палкой, в деревне своих детей никто не «воспитывал». Все кругом выказывали молчаливое неодобрение, но не вмешивались: так было заведено испокон веку. Между собой осуждали, а в глаза – никогда…
Черепановку миновали бего?м. Правда, это им казалось, что они бегут. На самом деле от усталости ребята едва ковыляли мимо крестов и пирамидок со звездами. Сколько раз Иван слышал, что мертвых не надо бояться.
– Бойся живых, – наставляла мама. Но, как только Иван оказывался возле кладбища, сердце начинало колотиться, мышцы напрягались, и хотелось пройти это место поскорее. Так было и в этот раз. Запыхавшись, ступили в огражденный забором скотный двор. Благо, ворота были открыты.
Возле больших ларей валялась куча турнепса. Коров еще не пригнали с пастбища, и вокруг ни души.
– Ну вот твой турнепс.
– А ножик?
– Держи.
Петька быстрыми движениями, как пацаны заостряют палки, стал чистить турнепс.
Иван открыл ларь.
– О, тут и картошка.
Петька заканючил:
– Иван, картошки бы пожарить. Давай, а! Это тебе не турнепс.
Ивану тоже захотелось запеченной в золе картошки.
– Ну давай, сварганим сейчас костерок.
Быстро развели огонь, дрова в поленнице рядом, у молоканки. Огонь резво сожрал сухие полешки, на их месте задышали жаром тлеющие головешки. Выбрав картошку, не крупную, но и не мелочь, Иван закопал ее в золу.
Стемнело. Друзьям давно не перепадало такого лакомства. Перекидывая с ладони на ладонь горячие, пачкающие сажей клубни, усердно дуя то на картофелину, то на пальцы, ребята вгрызались в ароматную мякоть, не обращая внимания, что горячая кожура обжигает руки и губы.
Тепло от костра, горячая картошка, тихий теплый вечер располагали к беседе.
– Иван, говорят: «счастливый – несчастный». А что такое счастье?
– Это когда все получается. В школе – одни пятерки, дома все хорошо, мать не болеет…
– А у меня счастливый день – это когда меня не бьют.
– А за что тебя бьют?
– Я и сам не знаю. За все. Чаще мать кидается.
– А отец?
– Он не отец. Мать родила меня, когда он на войне был. Иногда бьют за двойки. Вчера пару по арифметике принес, а решил пример, казалось, правильно. Училка по русскому вызвала к доске – стихотворение от страха вылетело из головы. Вторая двойка. Дома, конечно… Спина так болит. И жрать не дают второй день. Наверное, я совсем тупой, раз ничего не понимаю.
– Да брось ты, Петька, нет таких, чтобы совсем ничего не знали. Он думает о себе, что глупый, значит, он может рассуждать. Человек, даже очень ученый, не может знать все. Как это – все знать!
– Ты бы это моей матери рассказал.
– Она меня не послушает. Моя мама говорит, что дети не глупые, просто многого не знают. А когда растешь, учишься – ум развивается. Вот когда я вырасту, обязательно летчиком стану. В прошлом году нас за хорошую учебу прокатили на самолете. Мы поднялись высоко, наверное, около километра. Дома сверху такие маленькие, как игрушки, а до Качинской сопки – рукой подать. Хотя по земле сорок километров. Коровы – как букашки, а вверх посмотришь – жуть!. Не знаю, как, но я обязательно летчиком буду.
– А я хочу поваром…
– С тобой все ясно, – сочувственно вздохнул Иван.
Усталость, еда и тихая беседа сделали свое дело; друзья заснули, даже не подстелив охапку сена.
Разбудили их крики и яркий свет. Горела стена скотного двора. Толстые бревна полыхали, словно дрова в разгоревшейся печке.
Иван схватил Петьку, прижал к себе, не понимая, что случилось, зачем они здесь, и почему хлев объят огнем. Из деревни бежали с баграми и ведрами люди. Страх придавил ребят к земле, они не могли двинуться с места. Пылали бревна, трещал огонь, огромные его космы поднимались в небо. Ни дыма, ни копоти, только пламя. Огонь ужасал и завораживал. Казалось, что сам воздух воспламенился, далеко освещая окрестности. Потом пламя понемногу успокоилось, бревна уже не полыхали, а жарко тлели, перемигиваясь розовыми и оранжево-красными огоньками. Спрятавшийся в ворохе обгорелых головешек огонь доедало то, что еще осталось от скотного двора.