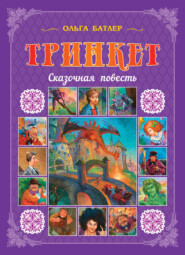По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой жёлудь. Асгарэль. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Просто знаю, и всё.
– Ну, а сам в этой тошниловке зачем постоянно торчишь?
На это я не нашелся, что ответить. Вместо ответа я попросил Любушку поскорее дать мне руку, потому что почувствовал, что астрал снова призывает нас.
Вырвавшись из голубизны, мы увидели космос в его незамутненной красоте. Метеориты неслись по своим давно вычисленным траекториям, созвездия приветствовали нас. Из хаоса выпрыгнула хорошенькая Козерожица. Вместо задних ног у неё оказался скорпионий хвост. Она боднула нас своими алмазными рожками, и сразу ярко полыхнуло красным, фиолетовым, зелёным, лиловым – словно радуга развалилась на полоски, которые побежали по небу.
Мы понеслись обратно к Земле и увидели северный город с древними башнями, большую ярмарочную площадь, заполненную народом. Люди прямо на улице пробовали орехи и конфеты, пили вино, весело разговаривали на иностранном языке. Очень праздничная обстановка у них была.
– Смотри, а вон там, где на углу надпись «Kaffitar», две старухи за окном сидят, кофе пьют. Морщинистые обе, голубоглазые. Хелга и Маргрет, видишь? Маргрет в серьгах и с большим носом, Хелга в оранжевом свитере. Они с юности дружили, пока Маргрет не разбогатела. Сначала встречалась с Хелгой раз в месяц, потом раз в два года, потом совсем пропала… Там, кстати, дерево растет под окном, исландская яблоня. Они медленно растут. И плодоносят редко – лишь когда лето действительно хорошее. Но зато в такое лето все обсыпаны яблоками.
– Расскажи дальше про Хелгу и Маргрет,– напомнила Любаша.
– Да особенно нечего больше про старух рассказывать. В день своего семидесятилетия Маргрет позвонила Хелге, та её приняла без упреков… У тебя рука совсем холодная,– сказал я Любаше.
– Замерзла,– извинилась она и прижалась ко мне, беззащитная, доверчивая, как ребёнок.
Меня просто распёрло от счастья. Всю жизнь бы так парил, сжимая её прохладные пальчики.
– Эту радость вдвоём и неразлучность рук мы сохраним, когда войдём в дней привычных круг! – выдал я рифму. Оказывается, в невесомости стихи легче сочинять.– Ого-го!
Сразу такой ответный шум-гам начался: птицы, обезьяны, другие дикие звери. Это мы после Исландии в тропический лес залетели.
– Ты меня слышишь или нет? Нам поговорить надо!
Надо, так надо… Вернулись в обрыдлую забегаловку к крысобаке.
– Давно пора поговорить, – ответил я с вызовом (неблагодарная, я ведь ей целый мир собирался показать!).– Мы с тобой оба зрелые люди. Я даже перезрелый, как сыр Чеддер английский. Ты думаешь, мне непонятно, что на душе у тебя творится? Вот сидит перед тобой самый обычный грешник, и надо решать…
– Речь не о том.
– Нет, ты скажи, Люба, примешь ли меня такого?
– Обязательно скажу. Но сначала признаться хочу,– начала она заговорщицким тоном. – Почему я здесь… Много лет назад произошло убийство, и совершивший его преступник ежедневно приходит в это кафе.
– Так ты… вы… из по-ли-ци-и?? – мгновенно протрезвев, я подскочил на стуле.
Амоку это показалось хорошим предлогом, чтобы молниеносно наброситься на меня. Я успел прикрыть шею, но проклятый пес откусил мой нос.
Когда сознание вернулось ко мне, я увидел, как Люба запихивает что-то в пакет с замороженным горошком:
– Там он дольше сохранится, – объяснила она торопливо.
После таких слов я, естественно, снова отключился.
Очередное возвращение в реальность было ещё кошмарнее. Я узнал лампу на потолке травмпункта, услышал голос хирурга:
– Ну, давайте его сюда! – и растерянный Любин ответ:
– Честное слово… Не знаю, куда он подевался. Только что в руках у меня был…
Она посеяла пакет с моим носом! Я выбежал на улицу. Уж как я его искал – под скамейки заглядывал, в урнах рылся, прохожих расспрашивал. У каждого был нос: маленький или большой, напудренный или сизый, сопливый, веснушчатый, даже с огромной бородавкой. Сейчас я взял бы любой из встреченных мною носов, но какой человек, в здравом уме и твердой памяти, согласится стать донором.
– На чём мои очки будут держаться?
Я присел на скамейку и тихо завыл. Амок присоединился ко мне. Мы выли, не глядя друг на друга, но я чувствовал, как страстно он ненавидит меня всеми фибрами своей примитивной души.
– Может, к психиатру тебе сходить? – предложила Люба.
Психиатры всё знают. «Эпилептоид мрачен и хорошо организован, шизоид мыслит творчески». Любой душевный пейзаж у них снабжен табличкой, как в галерее. Художники – шизоиды, смотрители – эпилептоиды, и остальные рядышком в кучу сбились, параноики-истероиды.
Как я и ожидал, психиатр сам оказался маньяком. Сонно смахнув в ящик стола замусоленный мужской журнал, он промурлыкал вместо приветствия:
– Пусть песня моя сведёт вас с ума, сведёт вас с ума, сведёт вас с ума…
Ассистировавшая ему медсестра сидела на противоположной стороне стола и что-то быстро писала. Она даже головы не подняла.
Психиатр подошёл, задышал мне в лицо недавно съеденным борщом.
– Пусть песня моя… Вот, привязалось! Вчера услышал от пациента, – сказал он и ударил меня по щеке.
– Ты охренел совсем? – закричал я, но психиатр словно не понял.
– А сегодня что случилось, – продолжил он, опять наступая. – Насыпал я утром хлопья в тарелку, залил молоком, отошел на минуту погладить брюки. Вернулся… и увидел в молоке… жирную чёрную муху! Бившую лапками! Как вы думаете, к чему бы это? – он отвесил мне вторую мощную пощечину.
Я прикрыл лицо, больше всего беспокоясь за рану на том месте, где прежде был мой нос, и жалобно простонал:
– Какие ещё мухи… Вы драться перестаньте.
– Мы его били? – спросил психиатр ассистентку.
– Ни в коем разе! – откликнулась та, даже не посмотрев в нашу сторону.
– Ну вот, всё то вы выдумываете, дорогой друг. В том числе про ваш нос.
Он, как фокусник, развел руками, уселся обратно за свой стол и продолжил препарацию моей души.
– Вы отдаёте себе отчет, что все ваши травмы психосоматические? Запрятанное в глубинах подсознания чувство вины – оно и есть ваш оторванный нос. Сапресд филинг, так сказать. А потеря носа – это неосознанное желание избавиться от неосознанного чувства вины… Какие сны видите?
Я мог бы рассказать, что мне раз пять снилось, как я сдаю в поликлинику анализы и как мне очень стыдно – ведь санитарка там молоденькая и красивая. Ещё я мог бы рассказать ему про сердце Севесей. Но вместо этого я сообщил, что часто вижу себя на кладбище, где обнаруживаю старую каменную плиту со своим именем.
Смерив меня пристальным взглядом, он хмыкнул.
– Выпиваете часто? Извращениями не страдаете? – при слове “извращения” глаза психиатра живо блеснули.
Я посмотрел на его крупный рот с оранжевыми после борща усами и сказал, чтоб он перестал морочить мне голову, лучше помог бы чем осязаемым.
Психиатр задумчиво отбил на столе бодренькую мелодию.