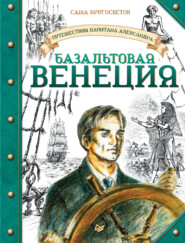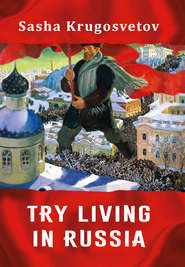По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цветные рассказы. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы не будете против, если я напишу Леонарду? – спросила она Марину. Та кивнула. – Если я напишу первая, ни вы, ни Леонард совсем не будете скомпрометированы.
Они попрощались, Эля подала Леонарду и Марине свою узкую, влажную ладошку.
– У меня к вам большая просьба, – обратилась она к Марине. – Позаботьтесь о Леонарде. Он достоин лучшей доли. Он очень добрый и талантливый. Если вы будете его обижать… – Потом повернулась к Леонарду. – Подождите меня несколько лет, Леонард, я подрасту… Придет время, и я заберу вас… я заберу вас обоих в свой замок.
Леонард и Марина были несколько обескуражены. Они заказали себе еще чай и кофе. Пытались продолжить разговор, поглядывая на Элю и ее отца. Разговор явно не клеился. Эля с отцом собрались и поднялись из-за своего стола. Отец Эли приветливо махнул рукой Леонарду с Мариной и первым направился в сторону двери. Эля внезапно подбежала к Леонарду и, совершенно не обращая внимания на Марину, влепила Леонарду звонкий мокрый поцелуй в щеку. Она развернулась, чтобы убежать, но Леонард успел поймать ее за поясок шотландки:
– Что надо сказать человеку, который икает и не может остановиться?
Эля просияла:
– Набери воздух и сиди, пока не задохнешься! – выкрикнула она и опрометью вылетела из ресторана, очевидно, в полном экстазе.
* * *
Белые ночи. Выйдя из Домжура, Нарик с Мариной долго бродили по городу. Нарик рассказывал о своей маме. О том, что матушка до сих пор ездит на велосипеде в Московский район, чтобы заработать какую-никакую копеечку, что до сих пор переживает за него по пустякам, что бабушки уже давно нет… О том, как он, Нарик, в свое время увлекался вокалом, танцем, как ему нравилось читать стихи… Но, увы, ничего серьезного из этого не получилось. Потому что сердце. Вот он и остался взрослым ребенком. Что друзья за веселый нрав и форму пальцев называют его «барабанные палочки». Вспоминал о своей беззаветной преданности первому чувству, о ежедневной розе и о «гранатовом браслете». О том, что мама знает о его давней привязанности к Лене, но незнакома с ней и имени ее не знает. «Меня это не интересует, – говорила ему мама. – Баловство одно. Немного затянулось твое юношеское увлечение. Все проходит. И это пройдет».
Нарик показал Марине, что осталось от «гранатового браслета», и хотел выбросить. «Не выбрасывай, – сказала Марина, – пожалуйста, не выбрасывай, оставь на память». Ей тоже захотелось выговориться, рассказать ему все, что накопилось и наболело за долгие годы. О муже Тёме. Об ушедшей любви. О маленьком Тёме, которого она не дождалась и которого до сих пор не может забыть. Они вспоминали стихи Цветаевой, Мандельштама, даже Шекспира, обсуждали, как ей сделать моноспектакль. Марина чувствовала себя комфортно рядом с Нариком. В нем столько юмора, доброты, тактичности и тихой мудрости очень чистого человека. Человек без второго дна. От него не следует ждать – ни хитрости, ни злобы, ни задней мысли. И все это Эля. Что за девочка – само совершенство! Марина с Нариком знакомы давно, театральный мир Ленинграда… он такой маленький, все знают друг друга. Шапочно. Знают, да не знают. Там, в Домжуре, они с Нариком поговорили бы десять минут и разошлись. Если бы не Эля… А теперь ей кажется, что они давно уже близкие друзья.
Белые ночи. Так говорят: «белые» – линялые серые сумерки под обломанным зеркалом ущербной луны. Что за счастье ходить без цели рядом с человеком, которому доверяешь. Они встретили на набережной знаменитого Темирканова, руководителя и дирижера Большого зала филармонии, он тоже гулял по городу… Совсем один. Элегантный, интересный, немолодой уже человек, с задумчивым и светлым лицом. Они встретили Толю Шагиняна, талантливого мима, который ходил по ночному городу с огромным котом на плече.
К середине ночи в конце сложного маршрута их броуновского движения наши немного грустные герои добрели до Театральной площади. Зайдем ко мне, попьем чайку, – предложила Маринка. У нее тоже – говорили, говорили… никак не могли наговориться.
– Скоро утро. Пойдем спать, Нарик, – сказала Маринка, – я сейчас постелю.
Леонард почувствовал некоторую неловкость. Весь этот вечер они провели вдвоем, между ними возникли… Близость и доверие… Те близость и доверие, которые бывают у брата с сестрой. Перед близостью с женщиной возникают совсем другие ощущения. А здесь не было случайных прикосновений, не было «удушливой волны», не было объятий, не было сияющих глаз… Маринкино «Я сейчас постелю» прозвучало как-то очень буднично. И даже, можно сказать, совсем безрадостно. Или она имела в виду что-то совсем другое? Марина придвинулась вплотную к Леонарду, положила руки на плечи, внимательно посмотрела в глаза: «В чем дело, Нарик?». Она поняла и его неловкость, и некоторое его смущение. Будто он ушел от нее, мгновенно удалился куда-то, улетел, будто он очнулся и спросил сам себя: «Что это за женщина рядом со мной, и почему так случилось, что я рядом с ней?».
Внезапно Марина вспомнила вчерашний сон, своего маленького восьмилетнего Тёму. Его грустное лицо в обрамлении длинных светлых волос. Одно лицо. Это же не Нарик, это ее Тёма. Я могу все исправить. Буду любить этого мальчика, буду жить ради него, чтобы ему было хорошо, чтобы он узнал, что значит быть счастливым.
Пуговичка за пуговичкой она расстегивала его рубашку. Гладила руками и целовала плечи и грудь: «Не бойся, Нарик. Тебе нечего стесняться. Не стыдись своей худобы, не стыдись шрама. Ты самый лучший, самый красивый». Нарик вспомнил последние слова Лены: «Я хотела бы, чтобы тебя больше не было в моей жизни. Твое поведение выглядит неумным и неуместным». Слезы катились по его серым щекам, по бледному, осунувшемуся лицу. «Как она могла так сказать? После стольких лет… Не нашла, не смогла, не захотела найти нормальные, человеческие слова. Откуда эти холодность и ожесточенность?». «Плачь, плачь, Нарик, не стыдись своих слез, со слезами уходят обиды и воспоминания. Все уже позади. Ты прошел свой путь, теперь ты дома. Ты не один, я с тобой, мой милый, теперь у тебя все будет очень хорошо».
Наутро Марина встала рано, сбегала в магазин, сделала завтрак. Завтрак на подносе – Нарику в постель. На подносе, среди прочего – плод граната.
– Ты куда намылилась, Машка?
Марину не удивило и не покоробило это обращение (странное обращение, Машкой ее раньше никто не называл), даже понравилось – Нарик сказал это как-то очень просто, по-свойски, будто они прожили вместе уже много счастливых лет.
– Я договорилась с Георгием Яковлевичем, обсудим мою новую работу. Ты не торопись, отдыхай, сегодня суббота, будь как дома. Это ведь теперь твой дом. Сходи к маме, возьми вещи, хотя бы на первое время. Скажи, что девушка, которой ты носил цветы, ответила тебе взаимностью и теперь ты переезжаешь к ней. Надолго. Можно сказать, навсегда. Да, вот еще что – гранат не ешь. Выбери зернышки и наклей на пластиковое основание. Я вернусь, ты подаришь мне новый Гранатовый Браслет. И потом… Надо сохранять традиции – принеси мне, пожалуйста, как ты привык, сегодняшнюю красную розу.
Нарик осторожно откусил рогалик, запил чаем с молоком и внимательно посмотрел на Марину.
– Неплохо выглядишь, Машка, черт побери. Как думаешь, Эля напишет мне письмо?
– Ты хорошо рассмотрел ее отца? Он же волшебник, добрый волшебник. А его дочь – фея. Она коснулась волшебной палочкой… И два уставших человека превратились в принца и принцессу. Они посмотрели друг на друга и тут же влюбились. Как же Эля может не написать? Обязательно напишет. Придет время, и она возьмет нас в свой замок, в Шотландию.
– Как ты думаешь, почему все-таки в кино целуются наперекосяк? – задумчиво спросил Нарик.
Акула
Французы говорят: «Если женщина не права, – попроси у нее прощения»
Я нашел ее, ту, которую так упорно искал.
Голубые джинсы в обтяжку и яркая блузка с расстегнутыми верхними пуговицами вызывающе подчеркивают зрелые формы. Светлые волосы забраны наверх, стянуты узлом, открывают чистые линии лба и овал бледного лица. По меркам отдыхающих – местная секс-бомба, на нее обращают внимание, за глаза называют «акулой».
Многие специально шли на танцы, чтобы поглазеть именно на нее. «Акула» – на сверхвысоких платформах. Обувь неудобная, танцевать на платформах трудно, пусть так, – но у девушки отменное чувство ритма и двигалась она – просто загляденье. Использовала несколько наработанных приемов, которые усвоила, видимо, на каких-то танцевальных курсах или полупрофессиональных занятиях. В то время мы все танцевали абы как, а она казалась «танцующей». Но самое главное – как она умело демонстрировала свои заманчивые прелести!
Пара средних лет оказалась на площадке недалеко от «акулы». Под любую музыку у них получалась странная смесь русской плясовой и падепатинера, бального танца, имитирующего движения конькобежцев. Оба – массивные, с каменными непроницаемыми лицами, он – со складкой над поясом, она – без талии, прямо от могучих плеч начиналась тяжелая грудь, плавно переходящая в неожиданно стройные и быстрые ножки.
Партнер старательно отводит взгляд от героини танцпола. «Вожделеешь?» – спрашивает его дама, широко разводя руки и постукивая каблучками. «Да нет, она не в моем вкусе! Тощая кривляка, и чего ей все так восхищаются?» – партнер в ответ притоптывает расползающимися ботинками, лихорадочно облизывает пересохшие губы и резко пунцовеет, пытается хоть как-то сохранить лицо благопристойного мужа, скрыть свои несанкционированные и совсем уж несоциалистические порывы.
Девушка из одесской команды круизного теплохода. Чем она там на своей работе занималась? – не знаю, но команда ее опекала. «Акула» всегда находилась в окружении четырех крепких парней недоброго вида. Из своих, так сказать. Они, эти парни, старательно повторяли ее па и преданно смотрели в глаза. С двумя из них она по очереди танцевала в обнимку, они же сопровождали ее при «выходах» в город на стоянках. В перерывах между танцами девушка спускалась вниз в сопровождении одного из двух этих своих ребят, тоже поочередно, – «пошла приласкать», говорили завсегдатаи танцпола. «Ах, злые языки…», – просто они завидовали этим парням из Одессы.
Любила танцевать, и казалась вполне счастливой, если бы… Временами словно тень пробежит по миловидному лицу – глаза становятся пустыми, отсутствующими, губы – безвольными, будто и не ее эти глаза, будто не ее эти губы. Но вот она уже снова смеется, глаза играют и дразнят, полные губы открывают белоснежную улыбку, кажется, что вовсе и не было никакого мимолетного видения.
Мне же, свидетелю этих ее неожиданных преображений, немного не по себе, словно в замочную скважину подглядываю или дверью ошибся и заскочил ненароком в чужую комнату, да нет – просто голова кружится, и дурнота подступает…
Вспоминалось мое собственное безоблачное семейное счастье, а потом – его мгновенное и ничем не объяснимое крушение. Это ведь случилось совсем недавно, всего пару месяцев назад. Каким словом, каким неосторожным движением я разбил эту хрупкую чашку? Неужели ревновала меня к своей заумной подружке? – какая глупость, знала ведь, что я никого, кроме нее, не замечал… А может, и действительно мне чего-то не хватало в ней, мне не хватало, а она чувствовала, и ее огорчали и даже мучили эти долгие разговоры за чаем «о высоком и непонятном» с ее образованной подругой? Где найти ответы на все эти вопросы? Сердце колотилось о стены своей одиночной камеры, рвалось к свету, а потом долго еще сжималось и покалывало.
Меня удивляло, почему пассажиры корабля называли ее «акулой»? Непонятно. Может, потому что считали лидером и кумиром этой одесской стаи? Возможно, и по другой причине: что-то, видимо, было временами в ее лице, – во внезапно потускневшем взгляде, в запавшем рте с безвольными, словно чужими, губами – отдаленно напоминавшее безучастную и бесконечно одинокую хищницу морских глубин. Одинокую? – может, это и верно, а хищницу – вряд ли, какую такую рыбку она может ловить на этом жалком танцполе в сопровождении своего провинциального эскорта?
Ну, «акула» так «акула», мне-то какая разница? Заметная персона, о ней много говорили, но за время путешествия никто так и не рискнул приблизиться к девушке с её грозным и бдительным сопровождением.
Однажды, я зашел в столовую перед самым ее закрытием. Пассажиров было немного. Увидел «акулу», редкий случай – она оказалась одна, без привычной «охраны». Одета во все серое – светло-серые джинсы, темно-серая рубашка. Подсел к ее столику, поздоровался, о чем-то спросил.
Глаза девушки на мгновение блеснули и снова стали безучастными, будто она не здесь уже, будто где-то далеко-далеко, и мои слова доносятся до нее как невнятный шелест ветра из дальнего угла сада. Тем не менее, она отвечала. Совсем тихим голосом, словно не надеясь, что ее услышат.
Неизвестно откуда появился один из ее спутников, молча стал рядом и выразительно посмотрел на меня. У входа в столовую нарисовались еще три знакомые фигуры.
Я хотел продолжить беседу. Но девушка с привычной готовностью поднялась из-за стола и, не прощаясь, удалилась в сопровождении эскорта. Шла как обычно – пружинисто, высоко подняв голову, выпрямив стройную спину, каблучки задорно цокали по кафельному полу, мне показалось, что была какая-то обреченность в этой напоказ заученной походке, в этой гордо поднятой голове.
Сон или действительность? Ангел или испуганная, сбившаяся с пути душа? Смотрел как завороженный вслед высоко поднятой голове, вслед вызывающе постукивающим каблучкам, смотрел так, словно с глаз пелена упала.
Внезапно я увидел, – будто меня перенесли куда-то далеко, в неведомое царство – увидел именно тот, Блоковский, «берег очарованный и очарованную даль», где на самом деле, наверное, и живут все эти упоительные, надломленные, неотразимо-притягательные и не до конца понятые Блоковские незнакомки.
После обеда спустился в каюту переодеться. Застал там Бориса, моего соседа лет тридцати с небольшим, из Ленинграда, как и я. Колоритная фигура. Инженер – кажется, прораб на стройке, но это не главное. Уличный боец. С детства ходил с «лиговскими» биться на Некрасова, на Петроградку, на Ваську. И сейчас тоже не упускал случая продемонстрировать удаль молодецкую при каждом удобном случае. Женщин он, конечно, жаловал, но они довольствовались в его душе вторым, а может, и третьим местом.
Сосед был подшофе. Оказалось, что он стал случайным свидетелем сцены в столовой.
– Ну что, отличник, получил полный атандэ? Испугался каких-то мальчишек.
«Отличник». Все, не сговариваясь, почему-то называют меня «отличником».
– А сам-то… Если такой смелый, почему сам счастья не попытаешь?
– Чего мне, герку?лесу, бояться? Просто ни к чему это. Скандал будет, а все равно ничего не выйдет. Форменная конфузия. Не отпустят ее одесские придурки, а то еще и порежут. Нужны мне эти приключения? Заходил сейчас к Анюте-официантке. Анюта всегда не против, зачем мне «акула»? Да и тебе-то она зачем?
– Ты не понимаешь, Боря. Жаль ее. Она не такая, какой хочет казаться.