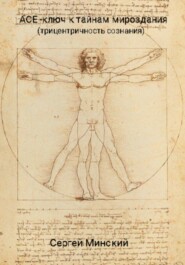По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Косой крест
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он лежал на кровати поверх одеяла и читал «Милого друга», когда в дверь после стука просунулось простоватое девичье лицо.
– Можно? – она вошла, не дожидаясь ответа, проговорив это «можно» просто так, не вкладывая в него смысла, – Здрасьте, – произнесла отчужденно еще один непререкаемый символ общения и провела взглядом по комнате, захватив им и Женино лицо. Взгляд тут же вернулся. Он оживился. И живость эта, Женя понял, проявилась в интересе к нему – к его особе. Он мельком оглядел ее коротенькое – намного выше пухленьких колен летнее платьице из ситца, уже начинавшего от времени и частых стирок терять свой вид. Ткань оказалась настолько тонкой, что ее складочки не только не скрывали рельеф пышного, без лифчика, бюста, но, наоборот, обыгрывали его так, как если бы хотели подчеркнуть лучшее из того, что было. В руке девушки, запечатанной в резиновую перчатку, Женины глаза обнаружили ведро с водой. Девушка поставила его и смущенно извинилась за то, что, хочешь, не хочешь, а обязана помыть в комнате пол. И за то, что, наверное, мешает ему читать.
– А что ты читаешь, если не секрет? – она тут же забыла, за что только что извинялась. Природное любопытство взяло верх.
– Мопассан. Милый друг, – он прикрыл книгу, чтобы показать обложку.
– Интересная? – в голос девушки вплелась хрипотца, и от этого он стал походить на мурлыканье, – Про любовь? Я слышала аб ней, но у меня не получилось ее найти. Кстати, я – Таня. А ты?
– Я? – опешил Женя от столь грациозного «кстати», но его бесхитростное подсознание уже торжествовало победу. «Ну точно! Не ровно дышит, – подумал, и в душе что-то шевельнулось, – Нет! – сказал себе и не поверил, – Нет, нет и нет», – Я – Евгений.
Девушка вышла и тут же вернулась со шваброй и тряпкой.
– Женя, ты ложись – читай, я не буду тебя больше отвлекать, – сказала она, словно сестра, решившая сделать брату приятно – помыть пол в его комнате, отвернулась и, взяв тряпку, наклонилась над ведром.
Ее пухлые ноги моментально оголились. Почти до самого конца. Женя нехотя отвел глаза. Стало до чертиков неудобно. Но приятное чувство, сопровождавшее стеснение, перехватив дыхание, заставило взгляд вернуться. Он боролся с собой, но ничего не мог с этим поделать. То, что происходило внизу его туловища, отметало все сомнения, которые пытались навязать высшие уровни психики. Тем более что он чувствовал – все это делается ею неспроста. Не потому, что она не понимает, что он видит это. А наоборот – она прекрасно понимает, что делает и для чего это делает. Но вот так – вдруг подняться, схватить ее и завалить на кровать – не смог. «А вдруг выпендривается и только… а сунься – скандал. Сбежится пол общаги… на хрена мне все это?», – он чуть не застонал от навалившегося переизбытка чувств и невозможности действовать. Лег на кровать, отвернулся к стене и попытался вникнуть в текст книги. Но адской машине в нем, чей маховик до предела раскрутили железы внутренней секреции, не суждено было так быстро остановиться. И хотя Женя, как мог, абстрагировался от навязчивой картинки, звуки выкручиваемой из тряпки воды за спиной, бряцание ручки о ведро и размеренные движения швабры – туда-сюда, туда-сюда – все это не давало возможности уйти от проблемы.
Наконец, послышался звук дверных петель и удалившиеся за пределы комнаты шаги. Снова противно скрипнуло. И наступила относительная для общежития тишина. Женя вздохнул: «Слава богу!»
Он уже почти успокоился, вживаясь в мир героев книги, и если и вспоминал мельком произошедшее, то уже, скорее, как что-то нереальное – надуманное воображением, когда в дверь снова постучали. Оглянувшись, он увидел в проеме знакомое лицо. Девушка улыбалась. И, казалось, просто и открыто. Но за этой простоватой улыбкой прятался вожделенный взор Евы, с его точкой бифуркации, равнозначной для него точке невозврата, за которой неизбежно нравственное падение.
– Можно? – Таня так же, как и в прошлый раз, не спрашивала разрешения. «Можно» было лишь следствием того специфического свойства психики, за которым не стоит вопрос, но лишь утверждение. «Можно» – это, скорее, лишь легкое сомнение, за которым следует – «… тебя осчастливить». И неважно, что, может быть, именно тебе такое счастье поперек горла. Важно, что это нужно тому, кто тебе это счастье несет. Она вошла, и Женя быстро сел на кровати, нащупав ногами тапочки.
– Да. Конечно, – запоздало предложил он.
Девушка была все в том же платьице, но уже свежепричесанная и без резиновых перчаток. Руки у нее тоже оказались пухлыми. Она стояла, явно не зная, что говорить или с чего начать. «Хотя ведь за чем-то пришла», – промелькнула в Жениной голове глупая мысль, совершенно не соответствовавшая ситуации.
– А у тебя есть… еще что-нибудь почитать? Для меня, – уточнила она, и вдруг, не дожидаясь ответа, спросила, показав рукой на кровать, – Можно я присяду? – и добавила, – Устала я что-то сегодня.
– Да, конечно, – Женя суетливо сдвинулся в сторону, предлагая место рядом.
Таня села и, повернувшись, качнулась в его сторону. По инерции. Не совладав с ней. Панцирная сетка придала телам центростремительную силу. Женя почувствовал плечом ее мягкую и одновременно упругую грудь, ощутил горячее дыхание. И все сомнения, пытавшиеся нейтрализовать собой сумасшествие крови, словно шелуха разом отлетели…
Девушка в прозрачном пеньюаре и таком же красивом кружевном белье, почти ничего не скрывавшем, все так же улыбалась Жене улыбкой всеведения. Она, словно знала о его позоре, который он, как мог, старался забыть. Но вот вспомнил же. Благодаря ей. Вспомнил, как еще толком тогда не начал соображать, еще оставался на пике чувственности, когда ощутил душевное опустошение. Вспомнил, как почти сразу, дойдя до предела, пустота стала заполняться тягучим стыдом. Как стало отвратительно все, к чему только что вожделел, к чему стремился в этой подброшенной судьбой женщине. Потому что все в ней было не его. И эта неприятная, даже отвратительная пухлость – особенно в пальцах. И неряшливость, которую он почувствовал лишь после того, когда все закончилось.
– Тьфу, ты черт… – взглянув еще раз на картинку, Женя вышел из вагончика наружу.
Буровая своей безжизненностью на мгновение заронила в душу масштаб одиночества в пространстве, обозначив понимание необходимости выживания. Оценив ситуацию с чуть выступавшей над крышей вагончика трубой, Женя понял – придется искать лист жести на буровой. Трубу надо было удлинять. «Так не пойдет. Дымить будет, – он зашел с другой стороны, – Да и искры… Надо забраться наверх, посмотреть, не завернут ли где лист обшивки, не оголен ли утеплитель». Но на вагончик сразу не полез, пошел сначала на вертолетную площадку – забрал пайву и спальный мешок.
Долго не мог найти ничего подходящего для наращивания трубы. Наконец, в сарае с остатками химреагентов, у дальней стены все же удалось обнаружить лист жести. Из него он и свернул, скрепив проволокой, подобие трубы. А шов, как пластилином, замазал глиной.
Печурка приветливо разгорелась. С хорошей тягой и хорошими сухими дровами она быстро нагрелась. Оказалось, Человеку совсем несложно было найти с ней общий язык. Она благодарила его за огонь, за наращенную трубу – за жизнь, которую тот вдохнул в нее, пусть даже и на короткое время.
Вода, которую Женя нашел в яме – под корнями одного из вывернутых когда-то ветром деревьев, по цвету могла бы поспорить со слабеньким кофе. Она довольно скоро закипела в алюминиевом котелке, чтобы стать ароматным – наполовину индийским, наполовину грузинским – чаем. Этот, со странным названием – №36 – чай специально сберегался для такого случая, чтобы в полной мере насладиться ощущением праздника. «Человек, интегрированный в природу, плюс чай – вот оно счастье». Женя улыбнулся. Он сидел на кровати, где заранее разобрал спальник, положив под него найденный в другом вагончике кусок фанеры для жесткости, и наслаждался покоем. Результатом работы. Ароматным, с вяжущим и одновременно сладковатым привкусом чаем. Единством с окружающим миром, дающим эту жизнь. Солнцем, заглядывавшим в запыленное с той стороны окошко. Для полного счастья осталось залезть на вышку и осмотреться – получить представление о ландшафте. «Хотя, в принципе, какой тут ландшафт? Тайга и тайга кругом». Но все же решил – надо. Надо знать, как течет речка – каким образом она огибает буровую? Как далеко геодезические профили? И, может быть, хотя маловероятно, отсюда видно пересечение с «косым»? Если не выбраться из такого, можно дезориентироваться и остаться в тайге навсегда. А ближайший поселок в трехстах километрах. Не считая буровых, которые, как и эта могут оказаться без людей. «Компас не забыть…»
Вспомнив о вышке и о том, что уже вторая половина дня, он уже почти машинально допивал чай, думая о пятидесяти трех метрах, которые ему придется преодолевать по крутой железной лестнице. О речке, огибающей буровую почти со всех сторон – как он видел это на карте. «Похоже на атолл… Или, точнее, на полуостров».
Так, постоянно перескакивая в мыслях с одного на другое, он и подошел к буровой. Поднял голову.
– Ух, ты! – вырвалось само по себе. «Есть в людях что-то божественное», – как ответ на восторженность чувств, пришло откровение. Верхушка вышки с кажущимся небольшим отсюда, но на самом деле огромным шкивом с перекинутыми через него тросами плыла среди белых облаков. У Жени даже закружилась голова. «Как красиво!»
Преодолев подъем рядом с пологим настилом, по которому затаскивают и стаскивают бурильный инструмент, он оказался на рабочей площадке. Здесь все хранило след недавнего пребывания человека, как будто бурение закончилось вчера-позавчера. Даже брезент, закрывающий рабочую зону от ветров, и тот выглядел довольно свежо, хотя именно он в первую очередь мог сказать, сколько здесь простояла буровая.
А вот и первые ступеньки лестницы, с круглыми, чуть развальцованными вверх отверстиями, чтобы не скользила нога. Ступеньки гулко откликнулись на прикосновение сапог. В относительной тишине мерный ритм железных шагов, неработающая техника вокруг буровой и отсутствие людей провели в сознании параллель с концом цивилизации. «Аж не по себе», – в позвоночнике появилось мгновенное ощущение легкого прострела. Словно электрический ток пробежал по нему, вызвав тяжелое ощущение. Женя даже не смог охарактеризовать его – какая-то вселенская тоска. В то же мгновение одиночество, которому он совсем недавно так радовался, показалось невыносимым.
Но продлилось это недолго. По мере подъема усилилось напряжение, и уже было не до лирики. Солнце стало жарким и напрягающим, расплавив окончательно драматизм железной разрухи, оставшейся далеко внизу. Перед Женей, насколько хватало глаз, расплескалось «зеленое море тайги». Мелодия старой песни, слышанной не единожды по радио, вдруг возникла сама по себе, высвободившись из памяти.
– Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги, – замурлыкал он исподволь.
И вот, наконец, вершина. Огромный шкив, внушительно выглядевший вблизи, венчал это чудо инженерной мысли прошлого века. Выше него был только громоотвод. Площадка вокруг шкива довольно просторная. Женя, обходя ее, поочередно осмотрел каждую из четырех сторон горизонта, внимательно выглядывая ориентиры, которыми не особо-то изобиловала местность. Направление речки трудно было определимо из-за крутых изгибов. Она бросалась из стороны в сторону – то на запад, то на восток. Место, где расположилась буровая со всеми сопутствующими постройками, как бы представляло полуостров, своей конфигурацией напоминавшей полукруг. Восточной оконечностью полуостров соединялся с уходившей к горизонту тайгой. Вот здесь как раз – примерно на трехкилометровом перешейке – и стояла вышка. «Точно, – подумал Женя, – на севере река снова уходит на запад и на юге тоже. Значит, где-то поблизости должен быть профиль, который я видел с вертолета. А севернее – косой, идущий от этого на северо-восток. А еще дальше от «меридианного» профиля – параллельно – почему-то еще один. Как-то необычно… Слишком близко. Наверно, и километра нет между ними… А с ближнего профиля должна быть видна, по идее, вышка… Да. Обязательно… здесь около километра… даже при высоких деревьях. Но местами-то есть и залысины. Если я пойду вдоль реки, то рано или поздно попаду на косой профиль, а с него – на меридианный. Так можно будет быстрее вернуться. До темноты точно успею». Он заторопился.
Спускаться было легче, хотя напряжение все же оставалось. Особенно в руках. Они цепко по очереди хватались за поручни. «Напряга-ает высота. Интересно? – Женя удивился пришедшей мысли, – Я, вроде, высоты не боюсь. А туловище… вон ручонки-то как за поручни цепляются…» Появилось странное ощущение. «Словно я… и туловище – не одно и то же, – усмехнулся, – Шизофрения…» Ощущение, чуть преобразившись, оказалось двойственностью. Вроде бы он – Емельянов Евгений Иванович – и одно целое, и не одно. Социальный опыт говорил – одно. А нынешнее мгновение показывало, что тело ведет себя вразрез с тем, чем живет его внутренняя суть и чем он себя на самом деле сейчас осознает.
Так он миновал рабочую зону буровой установки, спустился на землю и направился к вагончику. Войдя, приоткрыл дверцу печурки: дрова уже прогорели, осталось лишь несколько тлеющих угольков. Женя расчехлил и собрал ружье. Нацепил патронташ с приготовленным заранее набором патронов – с обязательными тремя жаканами. Один в ствол – на всякий случай – а вдруг медведь. Разобрал рюкзак, полностью освободив его. Положил туда полбулки хлеба, банку тушенки. Поколебавшись, бросил мешочек с сухарями. Проверил боковые карманы, где у него всегда лежали спички – НЗ, компас и фонарь. Подумал, и положил еще пачку «Беломора» в жестяной коробочке. «Все. До ночи хватит. Может, и это не пригодится? Может, и есть-то не придется?» Решил сразу идти на юго-запад от буровой, к внутренней середине «подковы», и оттуда двигаться по течению вдоль берега. По идее, до косого профиля – часа четыре хода, если все нормально. «А там до темноты останется часа два. Ну, два с половиной. По профилю доберусь до буровой быстро, еще почти засветло, чтобы увидеть ее оттуда – не пройти мимо».
6.
В этой стороне преобладало низкое редколесье. Иногда встречались деревья и повыше, но в основном небольшие березы перемежались с небольшими же сосенками. Иногда попадались кедр и пихта. Невысокие ели. Кусты багульника на низких прогалинах. В таких местах ландшафт напоминал уже наполовину болото с поросшими травой кочками и темным мхом между ними, говорившим, что влаги здесь маловато. Ближе к реке лес еще больше поредел. Прогалины с болотной растительностью стали шире. Деревья ниже. Появились – и их становилось все больше – засохшие, да и просто оголенные – без веток стволы. Они как воткнутые слеги торчали то тут, то там, портя пейзаж своей морщинистой растрескавшейся поверхностью, говорившей о бренности бытия. Сухостой как бы напоминал о неизбежности смерти. «Вот уж точно, – подумал Женя, – Парадоксы жизни. Куда упадет зерно, такова и жизнь его». Эти мысли вытянули из памяти еще один позорный факт из его жизни, чего он стыдился и всегда вспоминал с неохотой.
Жизнь только начиналась – ему исполнилось от силы около пяти, чтобы по-настоящему понимать человеческие взаимоотношения. Но уже тогда он прекрасно понимал, что делает плохо. Они повздорили с бабушкой. Почему – уже и не помнил. Да и какая разница. Суть-то совершенно в другом. В том, что он воспользовался ее беспомощностью. А она, кроме того, что находилась в преклонном возрасте – родила Женину маму в сорок три года, еще была больна полиомиелитом. Тяжело передвигалась и еле умудрялась что-то держать в руках. Бабушка попыталась поставить его в угол за то, что он нагрубил ей. Но он вдохновленный ее положением, стал дразниться, убегая. Она заковыляла за ним, обескураженная таким поворотом событий. А Женя залез под кровать и оттуда выдавал свое «бе-бе-бе, не достанешь-не достанешь». В памяти до сих пор осталась горечь от того разговора.
– А-я-яй! Как нехорошо ты ведешь себя, Женечка. Все расскажу отцу! – говорила бабушка.
– Не расскажешь-не расскажешь, – твердил он, зная, что бабушка никогда этого не делала, чтобы между ними не происходило.
– Расскажу, – настаивала она.
– Ну и говори, бе-бе-бе…
Казалось бы, что здесь такого – он же был ребенком. Со стороны, наверное, да. Но Женя всегда испытывал угрызения совести при воспоминании, казалось бы, безобидного поступка. Может, потому еще, что, когда бабушка, находясь в то время у своей старшей дочери, умерла, и мама, забрав младшего брата, уехала на похороны, он снова совершил постыдное и даже преступное деяние – «пляски на костях», как впоследствии для себя сформулировал. Почувствовав свободу, он – тогда уже девятиклассник – со своим закадычным другом Вовкой через какого-то взрослого знакомого прикупил после обеда две бутылки портвейна.
Выпитое содержимое здорово ударило по мозгам. Женю сначала мутило. Потом тошнило. А потом выворачивало наизнанку, когда блевать уже было нечем. А вечером, когда стемнело, Вовка, который был постарше и поздоровей, стащил у соседа – дяди Славы со двора мопед. Двухскоростную «Ригу». Они тихо откатили ее подальше, чтобы никто не услышал, завели в раскачку и прокатались полночи, пока не кончилось топливо. А потом бросили бесполезную технику на том месте, где «Рига» в судорогах умерла», посмеявшись над удачным сравнением.
Стыдно. Тогда, когда бабушка в другом городе лежала на смертном одре, он, ее внук, развлекался, как мог…
Появился новый звук. Вернее, он выделился из ритма шагов, похрустывания под ногами, шороха легкого ветерка в листве и перезвона насекомых и птиц. Выделился специфическим переливом. Журчанием быстро текущей воды.
Стали появляться кусты смородины.
Как-то не вписывались они в представляемую не местным человеком картину таежного края. Как будто что-то инородное – из другого мира. Женя никогда раньше не видел смородину в диком состоянии. Только на приусадебных участках. Появилось острое чувство связи между тем и этим миром. Через воспоминания детства, связанные со смородиной, с деревней, куда его возили в совсем юном возрасте.
Он пробрался через кусты, плотной изгородью закрывавшие от него воду с этой стороны речки, и остановился. Та сторона смотрелась более высокой. И именно поэтому, наверное, на ней уже возвышался настоящий лес. По самому берегу – кусты, дальше – редкие березки, а еще чуть дальше начинался ельник. Темный и – отсюда казалось – непроходимый. Немного в сторону по течению от места, куда подошел Женя, река расширялась метров до двадцати пяти-тридцати, образовывая с правой стороны заводь. Берег оказался трудным – идти было сложно. Где-то приходилось в прямом смысле продираться сквозь кусты, чтобы не обходить их по болоту. Так продолжалось с час, пока местность не стала забирать вверх, а течение реки уходить влево. Болотистая с кустами местность сменилась редколесьем, правда, с невысоким подсадом. Но все же идти стало полегче, и речка здесь смотрелась красивее. О птице, конечно, не было и речи. «Гусь очень осторожен, а так, как я иду, не то, что подойти к нему, его и увидеть-то невозможно – так далеко он чует человека». Слово «человек» снова ввело его в сомнительный транс собственной исключительности. И он снова испытал восторг чуть ли не планетарного масштаба: тот, кто наделил всех тварей земных разумом, его зачем-то возвысил над ними. Даже моховики смотрели на него так, словно просили оказать честь – сорвать их. Вслед за ними стали появляться подосиновики. Они кучками стояли то тут, то там, зазывая Человека к себе. Их яркие головки приятно выделялись среди серо-желтых пятаков, которыми почти сплошь была усеяна тайга. Складывалось ощущение, что моховикам все равно, где расти – в болоте или среди деревьев. Такого обилия грибов Женя прошлой осенью не видел и сейчас очень жалел, что не может собирать. «Не за этим я… Времени нет, – боролся с соблазном, – Жаль, что родители этого не видят».
Вспомнилось, как с отцом ездили в лес по грибы и как отец объяснял ему – маленькому мальчику, где съедобные, а где ядовитые. «А мне, дурачку, больше всех нравились мухоморы, – Женя улыбнулся собственной наивности, – Конечно. Они же были самыми красивыми. И мне так хотелось собирать именно их».
Прошли уже больше трех часов, как он в дороге. Уже река, обогнув возвышение, вновь сделала большой поворот – теперь вправо. И снова лес поредел. Появились кочки и кусты. Пики сухостоя. Высокая кое-где трава. Глаза начали искать с правой стороны просвет косого профиля. По карте он начинался где-то здесь – прямо от реки. Смотреть в ту строну было не очень удобно, потому что оттуда подсвечивало невысокое солнце. И он боялся, что не увидит, что пройдет мимо, потому что по опыту знал – начало профиля может быть нечетким, заросшим подсадом и кустарником, если тот был давно пробит. Надежда – не проворонить это место основывалась лишь на том, что дальше лес стоял четкой плотной стеной. А значит, профиль можно было увидеть.
Но неуверенность все же была. Была и неприятная перспектива заночевать в тайге – без спальника. Нет, страха заблудиться не было. Всегда можно вернуться на исходную. Но при последнем варианте событий – не сегодня. «Уже, по идее, должен быть. От поворота с километр. Ну, может, полтора». Волнение усилилось. Появилось неприятное ощущение – когда подпирает время, а работа подкидывает новые вводные, растягивающие сроки ее выполнения: у Жени оставалось не более трех часов до темноты, а профиля – как не было. «Вот будет весело, если я проскочу его… А может, уже проскочил?» Такая простая мысль поразила, потому что, когда он об этом думал в будущем времени, еще оставалась надежда. Противно похолодело в районе солнечного сплетения. «Только без паники… Не нервничать. А то точно проскочу, – он постарался взять себя в руки, – Профиль впереди. Я еще не дошел до него. Он вот-вот будет». По-другому просто не может быть. С ним – не может. Он как-то всегда выкручивался из любых ситуаций. Правда, однажды эта самая уверенность подвела его, и ему на целый год пришлось дольше учиться.