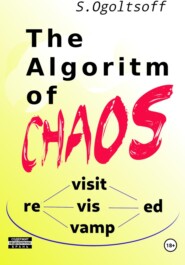По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…краснокожая книжица паспорта из широких штанин Советского гражданина не только грузила посторонних завистью, что ты из СССР. Она имела массу прочих полезных функций: следить за твоими перемещениями по нашей необъятной Советской Отчизне, отмечать перемены матримониального состояния, отражать перемены выражения твоего лица каждые десять лет и многое другое… В народе складывалась вера в безграничное всеведение Органона, он же паспорт. Вера наделяла книжицу магическими свойствами…
Простодушный привокзальный мент, заметно взвинченный чем-то, потребовал мой паспорт и на какой-то из пустых страниц (зачем он туда листал? она же для предстоящих штампов) углядел букву «З» закамуфлированную под случайное пятнышко. Нарытый знак сообщил ему, что я бывший зэк. Правда, он не смог вычитать какой конкретно срок я отмотал и потому сопроводил меня к старшему по званию, который отечески посоветовал ему не принимать всякого в плаще непривычного кроя за угрозу общественному и государственному строю.
Даже социализм не смог извести умных людей. Спасибо тебе, неизвестный Капитан!.)
В тот вечер молодая преподавательница ФилФака заглянула в комнату девушек. Наверное, удостовериться что там вообще такое творится. Потому что, помимо меня, ещё один влюблённый зачастил в угловую комнату – Чех Ян.
Натуральный Чех среднего возраста, прикомандированный в рамках братской интеграции соцлагеря, показать Большевику (а это не только село, но и одноимённый хмелепроизводственный совхоз) тонкое искусство сушки хмеля, чтоб получалось правильное пиво. Чехи и пиво испокон веков сиамские близнецы.
Супруга Яна осталась пестовать их чадушек в Чехословацкой Социалистической Республике. Он, есессна, тосковал и, чтобы снять страдание, влюбился в Олю. Что и стало причиной его вечерних посещений и долгих разговоров с нею, не понять о чём, потому что говорил он на Чешском. А если бы не языковой барьер, я б его поспрашивал про 1968…
Однажды девушки устроили вечеринку в комнате, так он вообще в галстуке заявился, до того, блин, цивилизованный. Он тогда ещё шампанское принёс и консервы, но явно не из сельмага, потому что куда вкуснее, чем даже печень трески, которую ближе Москвы с Ленинградом даже и не спрашивай. А водку пить наотрез отказался. На стакан укажет пальцем, из лица гримасу сделает и возле галстука по груди себя хлопает, в переводе с Чешского-Глухонемого «у меня несовместимость с этим пойлом»…
Но когда училка та пришла со своим контрольным визитом, Яна в комнате не было. Ну так она сама могла убедиться, что да, мы с Ирой сидим на одной койке, но в разных концах – всё чинно и пристойненько. Ну так давайте же чайку попьёмте. И только-только за стол она присела – в коридоре: Гуй! Х-хто! Буй! Мать! Незамать! Дверь комнаты: шарах! – настежь. А в темноте коридора пять-шесть хлопцев в две шеренги, взволнованные такие.
Контролёрша от чашки обернулась: —«Что тут происходит?»
– А ты хто така?!
Так она решила их авторитетом задавить: —«Девочки! Скажите им кто я!»
И все четыре девочки, в унисон, как будто этот хоровой стишок с детсадика готовили: —«Это препо-давательница!»
А те в ответ, церковным антифоном: —«Ну и идёт она НАхуй!»
(…м-да, чего уж скрывать, плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь и, к сожалению, не только сельскую…)
По ходу этого утренника я, конечно, догадался, что это явление по мою душу. За вечер до этого, девушка из соседнего общежития прибегала в клуб тревогу объявить, что местные хлопцы у неё в комнате безобразят. Я, конечно, побежал, а там на первом этаже неразбериха – одна девушка плачет, три местных хлопца и три студента обоюдно противостоят в бесплодных пререканиях на тему «а ты хто такой?» Короче, позиция патовая.
Для решения этюда, я выбрал который среди местных покрупнее и у плачущей спрашиваю: —«Этот обидел?»
– Да!
Нна! Засветил я парню. Местные неуловимо удалились, общее возбуждение улеглось. Потом он и ещё с ним двое дождались меня у входа в клуб.
– То не я был, – грит.
– Извини, – грю. – У меня выбора не было. – А как мне ему объяснить, что это меня начштаба приучил – факт нарушения должно влечь факт наказания? Хотя начштаба—что характерно—у меня извинения не просил.
Похоже, извинения мои не приняты и непрошеные гости к спонтанному чаепитию явились показать Большевистскую вендетту. Я из-под койки бутылку от шампанского выудил и встал перед дверью. Они снаружи лают, но порог переступить стесняются – у бутылки вид увесистый. Откуда им знать, что у меня по боевым искусствам фиг с минусом?
Тут в коридоре раздались шаги и позади хлопцев Степан завиднелся. Он с ходу просёк что почём и – атаковал с тыла. Я тоже выскочил в коридор с боевым кличем «Иди сюда блядь!» Сработало не хуже, чем на Шурика, хлопцы дрогнули и ринулись в отступление. Мы со Степаном добавляли стимуляции их порыву, но бутылки у меня в руках уже не было, не помню куда она девалась. Память сохранила лишь их дружный топот по деревянным ступеням и галоп Степана им вослед.
Я остался один на один с хлопцем, которому в общей сумятице не удалось протиснуться к ступенькам узкой лестницы и застрял наверху. Но дух его был сломлен, сам собою он вяло обвис на перилах площадки, как сполоснутый коврик у двери пенсионерки. Покорный судьбе, озирал он ступеньки внизу, на которые предстояло шмякнутья.
Я ухватил его—noblesse oblige! – но тут услышал вдруг крик, очень далёкий, едва различимый, похожий на тот, что позвал меня на обледенелой дороге у недостроенной девятиэтажки в Ставрополе. Я глянул вниз, потом на висячее желе капитулянта. Зачем?. И я ушёл по коридору обратно в комнату.
(…не спорю, всё это более чем странно, но странные вещи случаются иногда. Кто-то слышит голоса, а я слышал крики, тихие, издалека…)
И опять она не пришла на обед. Я пошёл в их комнату. Ира сидела одна и не хотела разговаривать. Я сел рядом на койку, взял её за руку… Мне нравилась эта рука, и эти пальцы, длинные, а чем дальше от ладони – всё тоньше. Не нравились только беловатые шрамики на запястье, как от подростковой игры в самоубийство, но я никогда про них не спрашивал. И на этот раз спросил только что случилось.
Она расплакалась и сказала, что утром старший преп-надзиратель приходил на плантацию стыдить её. Сказал, недостойно для дочери преподавателя иметь что-то общее с таким женатым и пропащим, как я. Что он обязательно позвонит и всё расскажет её матери, как только вернёмся в Нежин.
А что рассказывать-то? Какая мать-преподаватель?
– По Немец… ко… муу… – и она разрыдалась снова.
– А, да пошли они! Идём со мной!
– Куда?
Как будто бы я знал куда, но она согласилась, и мы пошли… Сначала это было кукурузное поле, но не то, через которое мы проходили когда приехали, тут стебли намного короче и реже. Потом начался склон и другое, скошенное поле и мы вышли к большой уединённой скирде сена.
День был тёплый и ясный. Мы легли на сено вывороченное из бока скирды и так валялись, говорили, целовались. Мне хотелось открыть ей всю мою душу и даже признаться, что я анашист. И я ужасно хотел её, только солнце мешало… Но с приближением вечера уединённость пропала. Рядом со скирдой пролегла грунтовка, какие-то грузовики и мотоциклы начали по ней ездить, пялиться на её красный свитер…
Вернулись мы в темноте и нас встретила Анна, которая нас дожидалась между двух общежитий, предупредить, что в комнате засада. Ещё она сказала, что старший преп-надзиратель тоже приходил в комнату, орал, что Ира и я прогуливаем работу, но нас видели возле села, и что деканаты наших факультетов будут поставлены в известность, а институтский ректорат, займётся таким кричащим нарушением дисциплины.
По ходу сводки новостей, Оля, Вера и Ян тоже собрались из темноты и начали держать совет: что делать? Ян всё качал головой и повторял уже не совсем по-Чешски, что «так ни ест харашо». Оля прикрикнула на него, что молчал бы уж, а лучше бы сходил в столовую за едой для нас, потому что только ему там откроют… Олю он понимал без перевода и скоро вернулся с газетным свёртком для гонимых «миловици». Я и не знал, что я такой голодный.
Тем временем, девушки на раз составили план кампании угнетённых студентов против препов-притеснителей. Мы с Ирой пойдём в Борзну, откуда Вера родом, и переночуем в хате её родителей. Утром Ира уедет в Нежин, как будто два дня назад, а я вернусь в Большевик, как будто приезжаю из Конотопа и без понятия, что тут за шухер вообще… Чех Ян вывел нас за околицу с благословением «миловат, миловици миловат», и мы вышли в ночь…
Ночь выдалась тёмной и ветреной, а дорога сплошь в колдобинах и длиннее, чем 10 километров, про которые говорила Вера. Ира очень устала, под конец я даже понёс её на закорках, как Гоголевский Хома Брут оседлавшую его ведьму, от одного столба электролинии до следующего вдоль обочины.
Ире уже приходилось гостить в хате Веры и она нашла её даже посреди ночи. Мать Веры постелила нам на полу в гостиной и обещала разбудить Иру к семичасовому автобусу на Нежин. Мы легли и, на моё объятие, Ира сказала, что она слишком устала и ей рано вставать. Через минуту она уже спала, а я ещё долго не мог – сна ни в одном глазу, лежал и злорадно лыбился в темноту, что так мы сделали этого придурка надзирателя… Нечем крыть? Нет туза? На вот хуй – протри глаза!.
Когда я утром проснулся, Ира уже уехала, и брат Веры отвёз меня в Большевик на своей «Яве». Студенты и преподаватели как раз выходили из столовой и он, неспешно треща мотором, провёз меня вдоль толпы, как триумфатора. Кое-какой долбоёб стоял отвесив челюсть, а глазами чуть стёкла из своих очков не вышиб… Правда, брат Веры разочаровался, когда на его вопрос я ответил, что на полу в их гостиной у меня с Ирой ничего не было…
~ ~ ~
Она долго не приезжала из Нежина, и я опять пошёл на поводу у имиджа навязанного мне обществом… Трое мужиков приехали из Борзны проложить водопровод через полдюймовую трубу в траншее по колено. Я мимо проходил и помог от нечего делать. Мужики расчувствовались и достали водку, но без закуси. Нашли какую-то старую кухонную клеёнку, под Вишней разостлали и уселись, а ноги в траншею поопускали, для удобства. Прикончили бутылку. А тут старший преп-надзиратель нагрянул засвидетельствовать рецидив – вместо работы беспробудно пьянствую. Завёл свою обычную шарманку: ну, погоди, вернёмся в Нежин… Пока молодой из рабочих в сельмаг за добавкой сходил, я заглянул на плантацию. Девушки с моего курса выступать начали, что я своих не замечаю, только с ФилФаковками знаюсь. Я ответил, что с детства рос Славянофилом и Аглицкие говяды до пят меня не вставляют. Короче – ФилФак for ever!
Тут меня мужики к траншее позвали. Мы кончили догоняльную бутылку, на этот раз под пару пряников, и я отключился на той же клеёнке-самобранке. Вроде как фирменный десерт заведения под Вишней… Впоследствии, старший преподаватель, в своей обвинительной речи, особый упор делал, что возвращаясь с плантации студентам приходилось наблюдать меня в таком неприглядно сервированном виде. И хотя расстояние от дороги до Вишни составляло метров пять, мне всё равно стыдно было это слушать. Но это уж потом…
Через три дня Вера поехала в Борзну и я тоже залез в кузов позвонить от неё Ире в Нежин.
– Привет.
– Привет.
– Ты как?
– Ничего.
– Ты… ну… приезжай, а?. Я тут… это… песню тебе написал…
Ну а что ещё взять с меня такого? Хотя на деле, не песню я написал, а только лишь переделку на Русский популярной тогда It's raining, it's pouring (you might be sorry).
"Снова шепчет дождь под окном моим,