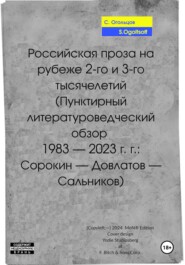По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пилюля диву давалась, что у меня такая частая простуда, где мой иммунитет? Затем изумление переросло в озлобленную подозрительность и она начала выдавать мне по два градусника за раз, в каждую подмышку по одному. Стабильность она этим не спугнула, а разница составляла только одну десятую: 37.3° на 37.2° – всё равно ОРЗ.
И тогда Пилюля озверела:
– Хватит! Вот тебе направление – пусть с тобой больница разбирается.
Но я не пошёл на попятную, отправился куда послан, и пролежал в больнице полторы недели. Ни за что, фактически, из чистой принципиальности.
При всём при этом, не следует забывать моё основное занятие – учёбу. Я отсиживал практические занятия в моей группе, временами посещал лекции для студентов всего курса. Сдавал зачёты и экзамены. И кроме того, я никогда не прекращал своё самообразование.
На втором курсе мне посчастливилось встретить Конармию и Одесские рассказы Ивана Бабеля. Он убедил меня, что даже после Великой Октябрьской Социалистической Революции не перевелись в России писатели, не погрязли в беспросветной трясине шолохово-марково-проскуринской муры. На третьем курсе, в читальном зале института, я обнаружил журналы с Мастером и Маргаритой Булгакова. Он меня потряс… В последний год обучения, нескончаемая, как течение Нила, Иосиф и Его Братья Томаса Манна ходила со мной в институт коротать долгие часы лекций.
Я уж не говорю уже про обычное чтиво, не имеющее отношения к моему образованию, когда читаешь от безделья. Как в тот раз, шорох пошёл по всей Общаге: «У, Ефремов! Таис Афинская! Потолок! Вершина и предел мечтаний!» Илюша Липес дал мне эту гетеру только на два дня. Так что после общего отбоя в полночь, мне приходилось тащиться в коридор и читать под светом лампы в потолке между умывальником и мужским туалетом.
Там я сидел на стуле из нашей комнаты, в овчинном полушубке на плечах, слишком коротком, чтобы закрыть мои бледные ноги, потому что перед этим читал в постели, свет вырубили, а мне лениво одеваться полностью. А что такого? Нечего гулять вокруг в такое время суток, а кому приспичило пусть представят что это я на пляже. На Золотых, блин, на Песках…
Но при всём уважении к Липесу, это не литература, а ещё одна картинка из учебника История Древнего Мира для пятого класса среднеобразовательной школы. Школьником, я любил рассматривать эти цветные иллюстрации в конце книги, где рабы Египта волокут каменные блоки к пирамиде и Римские легионы маршируют усмирять варваров. Красочно, спору нет, но литература и лубки не одно и то же… Впрочем, невозможно угадать, где найдёшь, где потеряешь…
Когда я там, под тёмным стеклом замёрзшего окна, пробегал глазами строки описания античного праздника, где участники мчат среди ночи в ритуальном забеге нагишом, у меня снова случилось видение. На какую-то долю секунды я оказался в потёмках Греческой ночи и бежал, голый как нудист, по чёрным теням тёмных деревьев, среди влажного мерцания звёзд над головой… Потом—цок! – и снова на мне полушубок, а я на стуле под холодным светом одинокой флуоресцентной лампы в потолке и серый бетон пола уходит в коридорную мглу объятого сном общежитии, но тело моё всё ещё напряжено той парой скачков неудержимого бега в ту долю секунды, а кожа моя всё ещё ощущает прохладу той ночи из далёкого прошлого…
(…ну и что ты тут будешь делать? А делай как все – пожми плечами, забудь и живи дальше. Так же, как все, как все, как все… Но сама книга, всё равно полная херня…)
Не лучшей хернёй были все те Теоретические Грамматики, ТеорФонетики, Научные Коммунизмы, Коммунистические Эстетики и кучи прочего всего ни в склад, ни в лад, из обязательной институтской программы… Хотя отчасти, я понимаю лекторов, которые нам всё это вливали. Во глубине времён минувших, им тоже приходилось это всё это заучивать и ныне, на основании перенесённых мук, они вымещают на нас, студентах, персональную неудовлетворённость таким дерьмовым устройством жизни.
"Приходи ко мне в перинхму
Позиготимся чуток…"
По-настоящему мне всего лишь одна лекция понравилась по… грамматике?. фонетике?. Ну короче, Скнар её читал. Это точно, потому что он выдал Лекцию Лекций. Хотя фамилия звучит как глумливое погоняло, сам он мужик неплохой. Когда я отправился, чтоб меня прикрыли в горбольнице, потому что медперсонал института не имел антивирусных средств привести мою, галопирующую с такой нескромной регулярностью, температуру в норму, он одолжил мне Тихого Американца Грэма Грина, на Английском. Без того тихони вряд ли бы я пережил ту неделю с чем-то, потому что мой сопалатник храпел так – аж шторы на окнах пузырились…
Ну в общем, перед той невероятной лекцией, на выходных в Конотопе, я к Ляльке зашёл, но его дома не было, и меня брат его, Рабентус, подогрел. Мне никогда ещё такая дурь не попадалась, как бы иссушенные скелетики тонких веточек. И никогда ещё я так не улетал. Мы на двоих один косяк выкурили, я на Рабентуса смотрю, как через линзу – лоб и челюсть узкие, в отдалении, а середина растянута горизонтальным образом. Он усёк, что у меня зашкаливает, посоветовал мне улыбальник водой сполоснуть, из-под крана. Но что толку?
Однако я помнил, что мне ещё в Нежин. По пути на вокзал захожу к Игорю Рекуну на Проспекте Мира. У мамаши его, от гостеприимности, радость неизбывная: —«Ах, как приятно познакомиться! Садитесь за стол, покушайте на дорожку».
Как будто я сидеть могу! Меня таскает туда-сюда – из гостиной на балкон, с балкона в гостиную. И по ходу таскалова по этому маршруту, я Игорёшу попросил найти бумагу с ручкой и записывать чего говорить буду. Типа там:
"Мир обезглавленный небом…"
потом вроде как:
"…ватные тучи лезут и трутся об мозг сквозь череп…"
И тому подобная, сюрреалистическая хренотень, но мы реально с натуры списывали, а не то б меня накрыло зыбучими песками Сюрреализма полностью навеки. В общем, только уже в электричке я кое-как в себя пришёл, между станциями Плиски и Круты.
А те сюр-сюр огрызки Жомнир потом в факультетской стенгазете разместил, рядом с Translator’ом, до того ему понравились.
Но всё это не про то, а про лекцию Скнара, просто воспоминания про ту дурь меня постоянно отвлекают, малость. В тот раз Рабентус, на прощанье, мне уделил щепотку на пару косяков и, с полным осознанием какая это термоядерная дурь, я уже больше не злоупотреблял, а проявлял умеренность…
Ну в общем, в таком вот состоянии—от умеренного до совсем тихого—я медленно заплыл на лекцию типа как свинцовый дирижаблик, потому что до Общаги тащиться совсем как бы далеко показалось на тот момент. И вот все мы садимся, с изысканной аккуратностью, чтобы один только Скнар стоять остался за той кафедрой со своей лекцией. А я смотрю и всё сильней и сильней восхищаюсь, до чего ж классная вещь! Вся фанера в той кафедре жёлтая такая и хорошо полированная, поблёскивает приятно так, старательно и уже неловко даже куда-то взгляд передвигать с этой лакированной хрени.
Но потом я чёт не понял, чё за дела, ващще? – резкий вылом из мирного течения колеи, причём заметно очень. Опаньки! Так это Скнар зачем-то на Латынь переключился! Я сконцентрировался, но—да! – точно Латынь… Причём шпарит на более беглой Латыни, чем Латинист Люпус, только звучит как-то глуховато, и глаза постоянно кверху подворачивает как бы к тебе взываю de Profundis! Я насторожился – Скнар это или не Скнар?.
Из-за этого всего, начинаю всерьёз присматриваться и что же оказывается? За кафедрой от всего Скнара ничего не осталось, кроме его бюста. Ну в натуре! На жёлтом ящике стоит тебе бюст Скнара, без рук даже – одни только плечи. Но голова всё так же говорит, не унимается. А на верхней губе её лица такая ложбинка миниатюрная, как раз по середине. И начинает она чёт темнеть, углубляться, пока не превратилась в усы Адольфа Гитлера. Аххуеть! В Советском институте бюст Гитлера лекцию читает, мало того – на Латыни! Ай, да Скнар!. Не всякий преп отважится такое закаблучить. А без него я бы до сих пор думал, что если лекция, то обязательно – туфта. Стереотипы, они такие привязчивые очень…
А с Жомниром я у него на дому учился… Как очередной перевод закончу, приношу к нему, садимся в гостиной, за стол к стене придвинутый, и он его драконит в пух и прах – тут хлипко, там жидко…
Ну да, я ещё до его вивисекции знал, что это слабые места, но почему? А как по-другому можно?
– А то вже твоя справа. Шукай.
– А что, если так: «лорд жвакнувся на рейки»?
– Нi! Це вже перебiр.
Угодить на него невозможно, всегда найдёт к чему придраться. Поэтому работа с Жомниром стала хорошей школой не сдаваться…
После тисков украинской «мови» тянуло расслабиться, и я попросил у Жоры Ильченко одну из книг, с которыми он из Индии вернулся, и начал переводить её на Русский. Карманная такая книжица, страниц на двести, автор Питер Бенчли, писатель в третьем поколении, то есть и дедушка и папа тем же ремеслом на жизнь зарабатывали. Называлась она Челюсти, про акулу людоедку. В целом, профессионально наструганный винегрет – от всего понемножку: откушенные конечности, любовный треугольник, краткий, но выразительный визит мафии, убедить благородного шерифа, чтоб не умничал чересчур и проявлял уважение. Правда, финальная сцена убийства акулы без зазрения списана из Моби Дика, но кто нынче читает Мелвилла?
Перелопачивая всё это на Русский, я прикончил пачку толстых тетрадок. Перевод был завершён в Конотопе, зимой. Значит, это была ночь с субботы на воскресенье, или же зимние каникулы… Часы на стене кухни показывали далеко за полночь. Последнюю точку, я намалевал на полстраницы, хотел извести пасту в ручке, но она так и не кончилась. Я выключил свет и лёг на диван-кровать в гостиной, ногами к обеим окнам. Там стояла чуть белесая ночь, наверное, снег отсвечивал. И такое впечатление, что эта ночь как-то чересчур тяжко налегает на стёкла, вот-вот вломится. Пришлось заснуть поскорее, только Виев мне тут не хватало – я никогда не любил ужастики.
К весне моя сестра Наташа дочитала те тетрадки, а потом дала кому-то ещё почитать и они бесследно ушли по рукам, в никуда…
Ладно, всё это хорошо, но когда же о главном?
Ира…
~ ~ ~
Мои отношения с ней в тот период можно запросто определить всего лишь одним словом – «му?ка» (сущ., жен. род, ед. число). А если всё же поднапрячься, определение это расширяется до – «му?ка му?ченическая». Начать с того, что само даже возобновление отношений в Нежине шло, что называется, через пень-колоду.
Зачем возобновлять? Странный вопрос. Ведь я же был влюблён, чёрт побери! Влюблён с первого взгляда на мокрой тропе меж, тоже мокрых, кукурузных стеблей. Как можно до сих пор не догадаться, что по своей природе я – однолюб, раз уж влюбился, то это навсегда. Ну в смысле, влюбляться, разлюбляться, потом, иди, опять влюбляйся… столько усилий, нет, это не моё. Не зря ведь отец мой никогда не уставал применять ко мне свою крылатую поговорку про Лень-матушку, которая раньше меня родилась. К тому же, возвращение в Нежин полностью подтвердило правильность моего выбора. При всей многоликости, многогубости, многоногости, многогрудости ассортимента, Ира оставалась непревзойдённой. Начиная с одежды: в эпоху тоталитарных дефицитов, она умудрялась придерживаться изысканно Европейского стиля, как в фильмах совместного Итало-Франко-Западно-Германского производства. Переходя глубже, да, к приправам с пряностями из ленточек-с-кружецами – я в жизни не видал на женщинах столь утончённого нижнего белья. Наконец, самое жизненно главное – тело, такие как у неё тела встречались мне лишь в ванной на Объекте, где, с жарким огнём в топке Титана за спиной, разглядывал я изваяния Богинь, Дриад и Нимф Эллады на чёрно-белых иллюстрациях в книге Легенды и Мифы Древней Греции.
А вот походка у неё ещё какая современная – по-Немецки размашистый шаг от бедра, мерные взмахи правой руки. Всё было совершенным – круглое лицо с высокими скулами и крохотной горбинкой носа, широкие, но не вывороченные губы. Светло-каштановые волосы идеальной длины в моём любимом стиле причёски. Я любил смотреть как своим решительным шагом она приближается вдоль улицы, направляясь к Старому Зданию, и наблюдать преображение нерезких, как на полной луне, разводов и контуров в расплывчато отдалённом круге её лица, в черты моей Иры. Но всё это пришло не стразу…
Поначалу Ира доверилась зловещим прогнозам Оли. И Вера, которая с такой заботой готовила в Большевике ложе для наших с Ирой плотских утех в потоках бурных сладострастья, даже и та неопределённо пожимала плечами, ну не знаю, про него такое рассказывают… Так что, наши первые встречи в Нежине никак не обнадёживали. У меня возникло даже подозрение, что всё бывшее между нами в Большевике, это «колхозный роман» дочки преподавательницы, которая просто попользовалась мною, поскольку в городе наши встречи напрочь иссякли.
Спустя какое-то время одногруппница Иры, Анна, отыскала меня в Общаге сказать, что Ира ждёт в комнате их общежития на главной площади. Я проследовал туда вместе с посланницей, незаметно кляня себя за постыдное отсутствие элементарной мужской гордости… Ира лежала на одной из коек, почему-то без кофты, в одной только юбке и, как всегда невыносимо соблазнительном, нижнем белье. Девушки этой комнаты тактично оставили нас наедине. Присев на койку рядом с ней, я старательно пытался не показывать насколько пленён красотой её торса и странно бледного лица. Она сказала, что была беременной и молодой хирург-гинеколог сделал ей аборт у себя на квартире под наркозом. Аборт под наркозом? На квартире? Молодой?
(…некоторые мысли лучше и думать не начинать, а если нечаянно случится, то лучше бросить и не додумывать до самого конца, до неизбежного вывода…)
Чувство вины и сострадания только усилили мою любовь. Я ничего не мог с собой поделать, обнял её за плечи и, приподняв с подушки, прижал к своей груди: —«Я люблю тебя, Ира. Ты всегда знай, что я люблю тебя».
(… и снова упираюсь в несвоевременность своего рождения. Веду себя как древний Грек из античных времён, когда контроль рождаемости лежал на женщинах – особые травы, спец амулеты, притирания всякие… А в нынешний просвещённый век слабый пол уже на шею нам уселся и ножки свесил, но так и продолжает прикидываться слабым…)
Начальные недоразумения (благодаря заботливости её подружек) усугубились неурядицами в установлении нормальных половых отношений в начальной стадии нашей любви. Дело не в отсутствии благоприятных условий для еб… гмм… то есть… для отношений. Никоим образом! Стоило Ире появиться в комнате 72, и мои сожители-первокурсники, по личному почину, отправлялись на первый этаж перещёлкивать каналы телевизора или сидеть в буфете над бутылкой лимонада. Проблема коренилась глубже…
Как-то не сразу, но я заметил, что после нашей… да, то есть… после секса, Ира впадала в грусть и по пути из Общаги к её дому говорила о реально грустном… как грустно по стадиону, куда два года ты ходила на лёгкую атлетику, осенний ветер гонит опавшие листья, а тебе тут уже больше не бегать – ты зашла попрощаться после растяжения связок.… до чего грустно сидеть за праздничным столом и не спеша ронять на пол тарелки, одну поверх другой, потому что родители так увлеклись выяснением взаимных отношений, вот и третья—бздынь! – пока папа, наконец-то, к тебе обернётся…
Чем дальше, тем грустнее. Смены настроения переросли в открытый саботаж! А как ещё это назвать? Когда в конце, твоя партнёрша по… короче, когда она из-под тебя выдёргивается? А и попробуй ещё добиться признания о поводе к такой непостижимости… Ну у неё как бы такое ощущение, что вот-вот случиться мочеиспускание в постель… Oh, fuck!