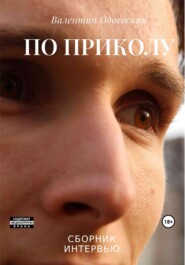По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Реквием по Победе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Врач рассмеялся.
– Молодец, что шутишь, значит точно живой и на поправку идёшь!
Несколько секунд продлилось молчание.
– Уникальный ты человек, Кошечкин, – продолжил врач. – Тебя расстреляли, а ты не погиб. Впервые такое вижу за свою практику.
– Да потому что не от своих я умереть должен, – усмехнулся солдат.
– Ну, знаешь ли…
Врач развёл руками.
– …четыре пули в себя принять – не хухры-мухры. Тут от одной, понимаешь, загибаются, а ты столько выдержал.
Кошечкин усмехнулся. Однако его усмешка, вдруг, резко сменилась удивлением.
– Подождите-ка…, – заговорил он. – Вы сказали, четыре пули во мне было?
– Да, – подтвердил врач. – Я лично их доставал из тебя. Ты ещё тогда, вроде очнулся ненадолго.
– Как же так? – недоумевал Кошечкин. – Меня же пятеро расстреливало!
– Ну, откуда мне знать? – усмехнулся доктор. – Не я же в тебя стрелял. Промахнулся, видать, кто-то.
– Да быть этого не может…
– Слушай, Кошечкин, ты жив остался – это главное! Подлатаем тебя и вернёшься в строй, ты у нас парень крепкий, судя по всему. Кстати…
С этими словами он извлёк из кармана халата треугольное письмо.
– …это тебе, вроде как, из твоего батальона прислали.
Врач удалился из палаты, а Кошечкин кое-как приподнялся на локтях и, подложив подушку, облокотился на неё.
Действительно – это было письмо из его родного батальона, адресованное ему, но… отправитель не был указан. Странно, конечно, однако, интерес был крайне силён, а потому Кошечкин развернул письмо, в котором неизвестный писал:
«Надеюсь ты уже скоро поправишься и вернёшься к нам в батальон, чтоб фашистов бить!
Жалко, что тебя расстрелять пришлось, я ведь был среди тех пятерых… но я не стрелял – знай это!
Выздоравливай скорее – нам ещё воевать вместе!»
И снова нет подписи. Ни намёка.
Кошечкин перечитал это короткое послание несколько раз.
Вот почему в нём было только четыре пули, а не пять. Промаха не было. Просто кто-то его пощадил. Этот человек дал ему шанс выжить. Благодаря ему, он сейчас жив и снова сможет воевать.
Нет. Он просто обязан выкарабкаться. Обязан как можно скорее залечить свои раны и вернуться в батальон, чтоб найти того, который не стрелял и поблагодарить.
Теперь же оставалось просто ждать, ибо тело болело, а повязки на нём давали о себе знать своей колючестью и запахом спирта….
***
Пулевые раны заживали как на собаке, что, хоть и противоречило его фамилии, но не могло не радовать сержанта. Тем не менее, врачи были другого мнения, а потому изо дня в день ставили ему всё новые и новые уколы, и никак не хотели отпускать на фронт.
Так тянулась неделя за неделей.
Месяц.
Второй.
Кошечкин уже не выдерживал всей этой госпитальной обстановки, которая и заключалась, в общем-то, в уколах, играми в шахматы с остальными ранеными, едой и бурными ночами с молоденькой грузинкой-медсестрой Полиной.
Между тем, вести с фронта приходили уже радостные. Его батальон был переброшен в Крым и постоянно участвовал в освобождении оккупированных городов и деревень. Кошечкин искренне завидовал своим товарищам, рвался к ним, но… врачи всё твердили своё: «Ещё не время, отлёживайтесь!»
В конце концов, у него в голове созрел план.
Очередной ночью, когда они с Полиной уединились в подсобке, он нашептал ей:
– Полечка, миленькая, на фронт мне надо!
Медсестра встрепенулась:
– Как? Тебя же не отпускают ещё…
– Это да, но… я-то уже здоров! Нет ран у меня уже. Не веришь – смотри!
С этими словами он повернулся к девушке голой спиной, на которой зияли четыре небольших шрама.
– А что я могу сделать, милый? – шептала медсестра. – Я ж не начальник госпиталя.
– Найди мне мои документы и одежду, а я уж доберусь до своих.
– Сбежишь?! – воскликнула Полина, и Кошечкин даже закрыл ей рот рукой.
– Чего ты кричишь-то, ну? Всё со мной хорошо будет! – шептал он.
– Тебя убьют там! Не пущу!
Она уткнулась ему в плечо и беззвучно зарыдала.
– Свои не убили, и эти не убьют.
Он гладил её по волосам и покачивал, прижимая к себе.
– Ну-ну, милая, всё хорошо. Я тебе писать буду. У меня ж мамки-то нет, вот, только ты есть!