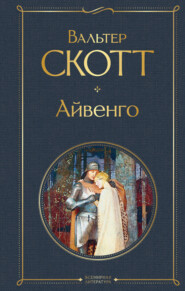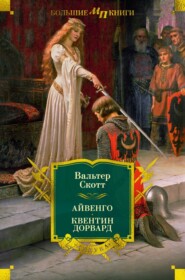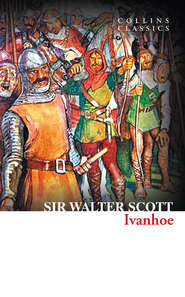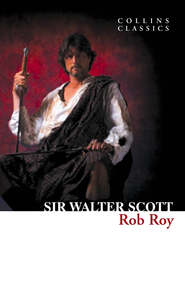По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный Карлик. Легенда о Монтрозе (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Монтроз выразил им благодарность за столь лестный прием, но, не довольствуясь этим, поспешил обратиться к каждому в отдельности. Наиболее значительный из присутствующих вождей давно был ему лично знаком; но он представлялся поочередно и менее известным и выказал при этом такое основательное знание их имен, присвоенных им прозвищ и всех подробностей истории каждого клана, что видно было, как он тщательно изучал нравы и обычаи горцев и как исподволь готовился к своему теперешнему посту.
Пока он таким образом рассыпался в любезностях, его изящные манеры, выразительные черты и благородная осанка составляли странную противоположность с грубой простотой его одежды. Его лицо и фигура с первого взгляда ничем не поражали постороннего зрителя, но были из разряда тех, которые становятся все более привлекательными, чем дольше на них смотришь. Он был немного выше среднего роста, превосходно сложен, одарен чрезвычайной мускульной силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было железное, что и давало ему возможность выдерживать все труды его удивительных походов, во время которых он подвергался всем неудобствам и лишениям наряду с последним солдатом. Он в совершенстве выполнял все, за что бы ни взялся, как в мирное, так и в военное время, и держал себя с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, с детства привыкшим к светскому обращению.
Волосы его, темно-русые и длинные, по моде тогдашних роялистов знатного происхождения, разделялись на темени прямым пробором и падали по обеим сторонам лица вьющимися прядями, из которых одна, спускавшаяся на два или на три дюйма ниже остальных, называлась у щеголей того времени «любовным локоном» и подала повод одному пуританину, мистеру Принну[91 - Принн Уильям (1600–1669) – пуританин, один из лидеров парламентской оппозиции Стюартам, политический деятель и памфлетист. Трактат, упоминающийся в романе, направлен против сторонников короля – кавалеров, у которых были в моде длинные волосы с особым, спускающимся на лоб завитком, носившим название локона любви.], написать целый трактат «о некрасивости любовных локонов». Черты лица его были из тех, прелесть которых зависит от характера самого человека, а не от правильности их линий. Орлиный нос, большие серые глаза, открытые и проницательные, и свежий цвет кожи искупали некоторую неправильность и даже грубость остальных частей лица; так что, в общем, наружность Монтроза скорее можно было назвать красивой, нежели грубой. Но те, кто видел его в минуты, когда в глазах этих зажигалась энергия пламенного гения, кто слышал его властную речь, блиставшую врожденным красноречием, тем даже и наружность его казалась несравненно более красивой, чем она кажется нам, судя по сохранившимся портретам. Именно такое впечатление произвел он теперь и на собрание горных вождей; а внешние преимущества, как известно, во все времена и у всех народов имели чрезвычайно важное значение.
В течение завязавшегося затем разговора Монтроз рассказал, каким разнообразным опасностям он подвергался по поводу настоящего предприятия. Вначале он пытался набрать корпус партизанов короля на севере Англии, откуда они должны были, по распоряжению маркиза Ньюкаслского, перебраться в Шотландию. Но это не удалось частью потому, что англичанам ужасно не хотелось переходить за границу, а частью оттого, что граф Энтрим, который должен был со своими ирландцами высадиться в заливе Сольвей, опоздал и не высадился. Затем он испробовал еще несколько других планов, которые тоже не удались, и наконец увидел, что иначе как переодетым ему ни за что не пробраться благополучно через равнину; тогда он решился прибегнуть к этому способу, в чем существенно помог ему его любезный родственник, лорд Ментейт. С какой стати Аллен Мак-Олей признал его, этого Монтроз не брался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Аллена, таинственно улыбнулись на эти слова; но сам Аллен возразил только, что «графу Монтрозу нечего дивиться, если окажется, что его узнают тысячи людей, которых он не может помнить».
– Клянусь честью кавалериста, – сказал капитан Дальгетти, насилу дождавшийся случая вставить свое слово, – что почитаю за счастье и горжусь случаем обнажить меч по команде вашего сиятельства, а также не держу на сердце ни гнева, ни досады на мистера Аллена Мак-Олея за то, что он вчера оттащил меня к нижнему концу стола. Он с тех пор рассуждал так умно и осмысленно, что я втайне решился было поступить с ним как с человеком, который ни с какой стороны не может счесться за слабоумного. Но теперь вижу, что он меня посадил лишь ниже благородного графа, будущего моего главнокомандующего, и потому при всех заявляю, что нахожу его распоряжение вполне правильным и от всего сердца приветствую Аллена как настоящего бравого камрада.
Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а остальные не слушали, он, не снимая железной перчатки, схватил Аллена за руку и стал дружелюбно пожимать ее; но Аллен с такой силой отвечал на это рукопожатие, что раздробил железную рукавицу, и осколки ее впились в руку Дальгетти.
Капитан мог бы, при желании, увидеть в этом новую обиду, но, пока он потряхивал свою поврежденную руку и дул на нее, внимание его было внезапно отвлечено словами самого Монтроза.
– Слышите, какие новости, капитан Дальгетти… или, лучше сказать, майор Дальгетти, – говорил Монтроз. – Ирландцы, которым предстоит воспользоваться вашей воинской опытностью, уже близехонько отсюда и скоро должны прийти.
– Наши охотники, – сказал Ангус Мак-Олей, – посланные за дичью для продовольствия здешней честной компании, слышали о нахождении в краю партии иноземцев, которые говорят не по-английски и не на чистом гэльском языке; они с большим трудом объясняются со здешним населением, носят оружие и направляются сюда под предводительством, как слышно, Алистера Мак-Дональда, слывущего под именем молодого Колкитто.
– Должно быть, это они и есть, – сказал Монтроз, – надо поскорее выслать им навстречу людей, как для того, чтобы проводить их сюда, так и для того, чтобы снабдить тем, в чем они нуждаются.
– Ну, – сказал Ангус Мак-Олей, – это не так-то легко будет сделать. Я слышал, что, кроме мушкетов да небольшого количества боевых снарядов, они нуждаются решительно во всем, необходимом для солдат; а всего меньше у них денег, обуви и одежды.
– Нет надобности так громко об этом заявлять, – сказал Монтроз. – Пуритане, ткачи из Глазго, доставят им сколько угодно сукна, как только мы спустимся с гор. А если прежним пасторам удавалось своими проповедями выманивать у шотландских старух запасы домашнего полотна, из которого их солдаты поделали себе палатки для лагеря при Дунсло, и я попробую повлиять на них в том же смысле, чтобы эти благочестивые хозяйки еще раз пожертвовали свои холсты на патриотическое дело, а тех мерзавцев, их мужей, заставлю в нашу пользу порастрясти свои карманы.
– Что же касается до оружия, – сказал капитан Дальгетти, – если ваше сиятельство позволите высказаться старому воину, я бы так полагал, что лишь бы одна треть армии была вооружена мушкетами, остальных всего лучше снабдить копьями: с этим хорошо можно выдержать кавалерийскую атаку, да и сквозь пехоту пробиться. Всякий кузнец легко наделает сотню наконечников в день, а лесу для древков здесь довольно. Я же готов доказать многими примерами, что сильный батальон копьеносцев, выстроенный по правилам, установленным великим Северным Львом, бессмертным Густавом, побьет даже и македонскую фалангу[92 - Македонская фаланга – усовершенствованный Филиппом Македонским, а затем Александром Македонским строй тяжелой пехоты греческих армий.], о которой я читал в маршальской коллегии, когда еще учился в древнем городе Абердине; мало того, заранее могу поручиться…
Тут тактические соображения капитана внезапно были прерваны Алленом Мак-Олеем, который торопливо произнес:
– Очисти место для нежданного и непрошеного гостя!
В ту же минуту дверь в зал распахнулась, и перед собранием явился пожилой человек с седыми волосами, очень величавой наружности: осанка у него была гордая и даже властная; он был выше среднего роста, и видно было, что он привык повелевать. Он окинул вождей суровым, почти строгим взглядом; те из них, которые были родовиты и могущественны, отвечали на этот взгляд презрительным равнодушием; но некоторые из менее знатных джентльменов, особенно с запада, готовы были, что называется, провалиться сквозь землю.
– К кому я должен здесь обратиться, – спросил незнакомец, – кто у вас предводитель? Или вы еще не успели избрать того лица, которое должно носить этот столь же почетный, как и опасный титул?
– Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмпбел, – молвил Монтроз, сделав шаг ему навстречу.
– К вам? – сказал сэр Дункан Кэмпбел с пренебрежением.
– Да, ко мне, – повторил Монтроз, – я граф Монтроз, коли вы меня не узнали.
– Теперь, по крайней мере, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – трудно вас узнать… в одежде конюха!.. Впрочем, можно было заранее угадать, что только под мощным и зловредным влиянием вашего сиятельства, известного возмутителя Израиля, могло состояться такое собрание людей, заведомо совращенных с пути.
– Хорошо, – сказал Монтроз, – и я вам отвечу в том же духе. Я смущал не Израиль, а только тебя и твоих присных… Но оставим эти личные счеты, они никого, кроме нас с вами, не касаются. Послушаем лучше, какие вести привезли вы нам от своего вождя, Аргайла, потому что, вероятно, от его имени вы явились на наше собрание?
– От имени маркиза Аргайла, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – от имени шотландского союзного совета спрашиваю вас: что означает такое удивительное сборище? Если оно имеет целью нарушить мир в стране, было бы по-соседски и вообще гораздо благороднее по крайней мере предупредить нас об этом, чтобы мы могли принять свои меры.
– Вот какое странное и совершенно новое положение дел в Шотландии, – сказал Монтроз, обращаясь ко всему собранию, – нынче, как видно, именитые и знатные шотландцы не могут сойтись в доме общего друга без того, чтобы правители страны не прислали узнать, зачем они сошлись и о чем рассуждают! Это что-то вроде инквизиции. Помнится мне, предки наши имели обыкновение устраивать в горах большую охоту и так вообще нередко собирались, не спрашивая на то позволения ни у самого великого Мак-Калемора, ни у его агентов и слуг.
– Да, было в Шотландии такое время, – сказал один из западных вождей, – и опять будет то же, когда те, кто захватил неправдой наши старинные владения, снова будут не более как лэрдами Лоховскими и перестанут нападать на нас, точно прожорливая саранча.
– Как же это понять? – сказал сэр Дункан. – Разве только против одного меня собираются воевать? Или Сыны Диармида должны пострадать лишь заодно со всеми прочими мирными и порядочными гражданами Шотландии?
– А я, – сказал один из вождей довольно дикого вида, внезапно вскакивая с места, – хочу задать рыцарю Арденворскому только один вопрос, прежде чем он приступит к дальнейшим дерзким расспросам: один ли он пришел в нашу среду или привел с собой приспешников, что решается приставать к нам с оскорблениями?
– Джентльмены, – сказал Монтроз, – умоляю вас быть сдержаннее. Лицо, присланное к нам для переговоров, во всяком случае, имеет право голоса и мы обязаны уважать его неприкосновенность. Но так как сэр Дункан непременно желает знать, в чем дело, я, пожалуй, отвечу ему для его личного руководства, что он находится среди верноподданных короля, созванных мной именем его величества, в силу высочайшего повеления, данного мне на этот счет.
– Из этого следует заключить, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – что у нас начнется формальная междоусобная война. Я такой старый солдат, что меня такая перспектива не пугает, но для чести лорда Монтроза было бы много лучше, если бы он в этом деле поменьше думал о собственном честолюбии и побольше о спокойствии своего отечества.
– Не я, а те лелеяли свое честолюбие и корысть, сэр Дункан, – отвечал Монтроз, – кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость крутых мероприятий, на которые мы решаемся поневоле и с сокрушением.
– А в каком чине состоит среди этих корыстолюбцев, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – один благородный граф, который так ревностно был привержен к Ковенанту, что в тридцать девятом году первый бросился вплавь через реку Тайн во главе своего отряда и напал на королевское войско? Не он ли самый мечом и копьем навязывал Ковенант гражданам и коллегиям в Абердине?
– Понимаю ваш насмешливый намек, сэр Дункан, – сказал Монтроз сдержанно, – могу сказать только, что если искреннее раскаяние может искупить грех молодости, то есть излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то и мне простятся те преступления, в которых вы меня укоряете. Я по крайности все сделаю, чтобы заслужить прощение, и вот, с мечом в руках, заявляю готовность пролить лучшую кровь моего сердца во искупление моих заблуждений, а больше этого ни один смертный ничего сделать не может.
– Ну, милорд, – сказал сэр Дункан, – жаль мне передать такие речи маркизу Аргайлу. Он поручил мне еще сказать вам, что во избежание кровавых фамильных распрей, которые непременно возникнут вследствие войны между горцами, маркизу было бы приятно, если бы к северу от горных районов проведена была нейтральная линия: в Шотландии и так останется довольно места для драки, за что же задевать еще соседей и истреблять семейства и имущество друг у друга?
– Мирное предложение, – сказал Монтроз, улыбнувшись, – этого и следовало ожидать от человека, личное поведение которого всегда было миролюбивее его распоряжений… Впрочем, если бы возможно было выработать основания такой нейтральной линии и если бы мы могли быть уверены… а это условие, сэр Дункан, необходимо иметь в виду, – если бы мы, говорю, могли быть уверены, что и ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я, со своей стороны, не прочь обеспечить мир в тылу нашего войска, раз впереди у нас непременно будет война. Но, сэр Дункан, вы сами такой опытный и бывалый воин, что мы не можем ни допустить дальнейшего вашего пребывания в нашем лагере, ни сделать вас свидетелем наших распоряжений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы просим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами пошлем со своей стороны джентльмена, которого уполномочим обсудить условия проведения мирной линии в том случае, если маркиз действительно желает поддержать свое предложение.
В ответ на это сэр Дункан только поклонился.
– Милорд Ментейт, – продолжал Монтроз, – сделайте одолжение, побудьте с сэром Дунканом Кэмпбелом из Арденвора, пока мы станем решать вопрос, кто будет сопровождать его к его вождю. Мак-Олей, распорядитесь, пожалуйста, чтобы сэру Дункану оказано было всякое гостеприимство!
– Я сейчас распоряжусь, – сказал Аллен Мак-Олей, вставая и подходя к сэру Дункану. – Я люблю сэра Дункана Кэмпбела; в былые дни мы с ним вместе пострадали, и я этого не забываю.
– Милорд Ментейт, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – я искренне огорчен, видя, что вы в такие молодые годы ввязались в такое отчаянное и беззаконное предприятие!
– Я действительно молод, – отвечал Ментейт, – однако умею различать добро от зла, честность от беззакония; а чем раньше начинать хорошее дело, тем дольше и успешнее можно его делать.
– И вы тоже, друг мой, Аллен Мак-Олей, – сказал сэр Дункан, взяв его за руку, – неужели нам суждено считаться врагами, тогда как мы так часто соединялись против общего недруга? – Потом, обратясь ко всему собранию, он сказал: – Прощайте, джентльмены; так многим из вас я от души желаю добра, что ваш отказ от мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть Небеса, – прибавил он, взглянув вверх, – рассудят между нами и решат, кто из нас правее!
– Аминь, – сказал Монтроз. – Этому суду и мы все подчиняемся.
Сэр Дункан Кэмпбел вышел из зала в сопровождении Аллена Мак-Олея и лорда Ментейта.
– Вот образец чистокровного Кэмпбела, – сказал Монтроз по уходе посла, – все они такие же: с виду прав, а сам фальшивый!
– Извините, милорд, – сказал Ивен Ду, – мы с ним исконные, фамильные враги, а я все-таки скажу, что рыцарь Арденворский всегда храбр в битве, честен в мире и прямодушен на совете.
– Сам по себе, пожалуй, – сказал Монтроз, – с этим и я согласен; но он здесь служит представителем своего вождя, маркиза, а этот фальшивейшее в мире создание… И вот что, Мак-Олей, – продолжал он шепотом, обращаясь к хозяину дома, – боюсь я, как бы он не повлиял на неопытного Ментейта или на своеобразно настроенного вашего брата; поэтому пошлите-ка музыкантов в ту комнату, чтобы он не мог завести с ними никаких особенных разговоров.
– Да у меня ни единого музыканта нет, – отвечал Мак-Олей, – то есть один дудочник есть, на волынке играет… Да и тот совсем охрип теперь, потому что все хотел перещеголять троих товарищей по искусству… Но можно послать туда Анну Лейл с арфой. – И он пошел лично распорядиться этим.
Между тем возник горячий спор о том, кому дать опасное поручение сопровождать сэра Дункана в Инверэри. Нельзя было предложить это главным вождям, привыкшим держать себя на равной ноге даже с самим Мак-Калемором, а менее важным ужасно не хотелось туда отправляться. Они выказывали такое явное к этому отвращение, словно Инверэри было расположено в какой-то Долине Смерти. Сначала они помялись, но под конец откровенно высказали свою затаенную мысль; а именно что какое бы поручение ни принял на себя хайлендер, если оно будет неприятно Мак-Калемору, он никогда этого не забудет и найдет средство со временем отплатить за это весьма чувствительным образом.
Монтроз считал в душе, что предлагаемое перемирие есть не более как военная хитрость со стороны Аргайла, но не решился прямо высказать такого предположения в присутствии лиц, так существенно заинтересованных этим вопросом.
Видя, однако, что затруднение становится неразрешимым, он вздумал назначить на этот почетный и опасный пост капитана Дальгетти, у которого в горах не было ни клана, ни поместья, и, следовательно, не на что было обрушиться гневу Аргайла.
– А шея-то у меня есть, – заявил Дальгетти, – что, коли ему вздумается на ней сорвать свою досаду? Знаю я такие случаи, когда честного парламентера без церемонии вздергивали на виселицу под тем предлогом, что он шпион… Вот и римляне тоже не очень-то милостиво расправлялись с послами при осаде Капуи; хотя, впрочем, я читал, что они только отрезали им руки и носы да выкалывали глаза, а потом отпускали с миром.
Пока он таким образом рассыпался в любезностях, его изящные манеры, выразительные черты и благородная осанка составляли странную противоположность с грубой простотой его одежды. Его лицо и фигура с первого взгляда ничем не поражали постороннего зрителя, но были из разряда тех, которые становятся все более привлекательными, чем дольше на них смотришь. Он был немного выше среднего роста, превосходно сложен, одарен чрезвычайной мускульной силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было железное, что и давало ему возможность выдерживать все труды его удивительных походов, во время которых он подвергался всем неудобствам и лишениям наряду с последним солдатом. Он в совершенстве выполнял все, за что бы ни взялся, как в мирное, так и в военное время, и держал себя с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, с детства привыкшим к светскому обращению.
Волосы его, темно-русые и длинные, по моде тогдашних роялистов знатного происхождения, разделялись на темени прямым пробором и падали по обеим сторонам лица вьющимися прядями, из которых одна, спускавшаяся на два или на три дюйма ниже остальных, называлась у щеголей того времени «любовным локоном» и подала повод одному пуританину, мистеру Принну[91 - Принн Уильям (1600–1669) – пуританин, один из лидеров парламентской оппозиции Стюартам, политический деятель и памфлетист. Трактат, упоминающийся в романе, направлен против сторонников короля – кавалеров, у которых были в моде длинные волосы с особым, спускающимся на лоб завитком, носившим название локона любви.], написать целый трактат «о некрасивости любовных локонов». Черты лица его были из тех, прелесть которых зависит от характера самого человека, а не от правильности их линий. Орлиный нос, большие серые глаза, открытые и проницательные, и свежий цвет кожи искупали некоторую неправильность и даже грубость остальных частей лица; так что, в общем, наружность Монтроза скорее можно было назвать красивой, нежели грубой. Но те, кто видел его в минуты, когда в глазах этих зажигалась энергия пламенного гения, кто слышал его властную речь, блиставшую врожденным красноречием, тем даже и наружность его казалась несравненно более красивой, чем она кажется нам, судя по сохранившимся портретам. Именно такое впечатление произвел он теперь и на собрание горных вождей; а внешние преимущества, как известно, во все времена и у всех народов имели чрезвычайно важное значение.
В течение завязавшегося затем разговора Монтроз рассказал, каким разнообразным опасностям он подвергался по поводу настоящего предприятия. Вначале он пытался набрать корпус партизанов короля на севере Англии, откуда они должны были, по распоряжению маркиза Ньюкаслского, перебраться в Шотландию. Но это не удалось частью потому, что англичанам ужасно не хотелось переходить за границу, а частью оттого, что граф Энтрим, который должен был со своими ирландцами высадиться в заливе Сольвей, опоздал и не высадился. Затем он испробовал еще несколько других планов, которые тоже не удались, и наконец увидел, что иначе как переодетым ему ни за что не пробраться благополучно через равнину; тогда он решился прибегнуть к этому способу, в чем существенно помог ему его любезный родственник, лорд Ментейт. С какой стати Аллен Мак-Олей признал его, этого Монтроз не брался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Аллена, таинственно улыбнулись на эти слова; но сам Аллен возразил только, что «графу Монтрозу нечего дивиться, если окажется, что его узнают тысячи людей, которых он не может помнить».
– Клянусь честью кавалериста, – сказал капитан Дальгетти, насилу дождавшийся случая вставить свое слово, – что почитаю за счастье и горжусь случаем обнажить меч по команде вашего сиятельства, а также не держу на сердце ни гнева, ни досады на мистера Аллена Мак-Олея за то, что он вчера оттащил меня к нижнему концу стола. Он с тех пор рассуждал так умно и осмысленно, что я втайне решился было поступить с ним как с человеком, который ни с какой стороны не может счесться за слабоумного. Но теперь вижу, что он меня посадил лишь ниже благородного графа, будущего моего главнокомандующего, и потому при всех заявляю, что нахожу его распоряжение вполне правильным и от всего сердца приветствую Аллена как настоящего бравого камрада.
Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а остальные не слушали, он, не снимая железной перчатки, схватил Аллена за руку и стал дружелюбно пожимать ее; но Аллен с такой силой отвечал на это рукопожатие, что раздробил железную рукавицу, и осколки ее впились в руку Дальгетти.
Капитан мог бы, при желании, увидеть в этом новую обиду, но, пока он потряхивал свою поврежденную руку и дул на нее, внимание его было внезапно отвлечено словами самого Монтроза.
– Слышите, какие новости, капитан Дальгетти… или, лучше сказать, майор Дальгетти, – говорил Монтроз. – Ирландцы, которым предстоит воспользоваться вашей воинской опытностью, уже близехонько отсюда и скоро должны прийти.
– Наши охотники, – сказал Ангус Мак-Олей, – посланные за дичью для продовольствия здешней честной компании, слышали о нахождении в краю партии иноземцев, которые говорят не по-английски и не на чистом гэльском языке; они с большим трудом объясняются со здешним населением, носят оружие и направляются сюда под предводительством, как слышно, Алистера Мак-Дональда, слывущего под именем молодого Колкитто.
– Должно быть, это они и есть, – сказал Монтроз, – надо поскорее выслать им навстречу людей, как для того, чтобы проводить их сюда, так и для того, чтобы снабдить тем, в чем они нуждаются.
– Ну, – сказал Ангус Мак-Олей, – это не так-то легко будет сделать. Я слышал, что, кроме мушкетов да небольшого количества боевых снарядов, они нуждаются решительно во всем, необходимом для солдат; а всего меньше у них денег, обуви и одежды.
– Нет надобности так громко об этом заявлять, – сказал Монтроз. – Пуритане, ткачи из Глазго, доставят им сколько угодно сукна, как только мы спустимся с гор. А если прежним пасторам удавалось своими проповедями выманивать у шотландских старух запасы домашнего полотна, из которого их солдаты поделали себе палатки для лагеря при Дунсло, и я попробую повлиять на них в том же смысле, чтобы эти благочестивые хозяйки еще раз пожертвовали свои холсты на патриотическое дело, а тех мерзавцев, их мужей, заставлю в нашу пользу порастрясти свои карманы.
– Что же касается до оружия, – сказал капитан Дальгетти, – если ваше сиятельство позволите высказаться старому воину, я бы так полагал, что лишь бы одна треть армии была вооружена мушкетами, остальных всего лучше снабдить копьями: с этим хорошо можно выдержать кавалерийскую атаку, да и сквозь пехоту пробиться. Всякий кузнец легко наделает сотню наконечников в день, а лесу для древков здесь довольно. Я же готов доказать многими примерами, что сильный батальон копьеносцев, выстроенный по правилам, установленным великим Северным Львом, бессмертным Густавом, побьет даже и македонскую фалангу[92 - Македонская фаланга – усовершенствованный Филиппом Македонским, а затем Александром Македонским строй тяжелой пехоты греческих армий.], о которой я читал в маршальской коллегии, когда еще учился в древнем городе Абердине; мало того, заранее могу поручиться…
Тут тактические соображения капитана внезапно были прерваны Алленом Мак-Олеем, который торопливо произнес:
– Очисти место для нежданного и непрошеного гостя!
В ту же минуту дверь в зал распахнулась, и перед собранием явился пожилой человек с седыми волосами, очень величавой наружности: осанка у него была гордая и даже властная; он был выше среднего роста, и видно было, что он привык повелевать. Он окинул вождей суровым, почти строгим взглядом; те из них, которые были родовиты и могущественны, отвечали на этот взгляд презрительным равнодушием; но некоторые из менее знатных джентльменов, особенно с запада, готовы были, что называется, провалиться сквозь землю.
– К кому я должен здесь обратиться, – спросил незнакомец, – кто у вас предводитель? Или вы еще не успели избрать того лица, которое должно носить этот столь же почетный, как и опасный титул?
– Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмпбел, – молвил Монтроз, сделав шаг ему навстречу.
– К вам? – сказал сэр Дункан Кэмпбел с пренебрежением.
– Да, ко мне, – повторил Монтроз, – я граф Монтроз, коли вы меня не узнали.
– Теперь, по крайней мере, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – трудно вас узнать… в одежде конюха!.. Впрочем, можно было заранее угадать, что только под мощным и зловредным влиянием вашего сиятельства, известного возмутителя Израиля, могло состояться такое собрание людей, заведомо совращенных с пути.
– Хорошо, – сказал Монтроз, – и я вам отвечу в том же духе. Я смущал не Израиль, а только тебя и твоих присных… Но оставим эти личные счеты, они никого, кроме нас с вами, не касаются. Послушаем лучше, какие вести привезли вы нам от своего вождя, Аргайла, потому что, вероятно, от его имени вы явились на наше собрание?
– От имени маркиза Аргайла, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – от имени шотландского союзного совета спрашиваю вас: что означает такое удивительное сборище? Если оно имеет целью нарушить мир в стране, было бы по-соседски и вообще гораздо благороднее по крайней мере предупредить нас об этом, чтобы мы могли принять свои меры.
– Вот какое странное и совершенно новое положение дел в Шотландии, – сказал Монтроз, обращаясь ко всему собранию, – нынче, как видно, именитые и знатные шотландцы не могут сойтись в доме общего друга без того, чтобы правители страны не прислали узнать, зачем они сошлись и о чем рассуждают! Это что-то вроде инквизиции. Помнится мне, предки наши имели обыкновение устраивать в горах большую охоту и так вообще нередко собирались, не спрашивая на то позволения ни у самого великого Мак-Калемора, ни у его агентов и слуг.
– Да, было в Шотландии такое время, – сказал один из западных вождей, – и опять будет то же, когда те, кто захватил неправдой наши старинные владения, снова будут не более как лэрдами Лоховскими и перестанут нападать на нас, точно прожорливая саранча.
– Как же это понять? – сказал сэр Дункан. – Разве только против одного меня собираются воевать? Или Сыны Диармида должны пострадать лишь заодно со всеми прочими мирными и порядочными гражданами Шотландии?
– А я, – сказал один из вождей довольно дикого вида, внезапно вскакивая с места, – хочу задать рыцарю Арденворскому только один вопрос, прежде чем он приступит к дальнейшим дерзким расспросам: один ли он пришел в нашу среду или привел с собой приспешников, что решается приставать к нам с оскорблениями?
– Джентльмены, – сказал Монтроз, – умоляю вас быть сдержаннее. Лицо, присланное к нам для переговоров, во всяком случае, имеет право голоса и мы обязаны уважать его неприкосновенность. Но так как сэр Дункан непременно желает знать, в чем дело, я, пожалуй, отвечу ему для его личного руководства, что он находится среди верноподданных короля, созванных мной именем его величества, в силу высочайшего повеления, данного мне на этот счет.
– Из этого следует заключить, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – что у нас начнется формальная междоусобная война. Я такой старый солдат, что меня такая перспектива не пугает, но для чести лорда Монтроза было бы много лучше, если бы он в этом деле поменьше думал о собственном честолюбии и побольше о спокойствии своего отечества.
– Не я, а те лелеяли свое честолюбие и корысть, сэр Дункан, – отвечал Монтроз, – кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость крутых мероприятий, на которые мы решаемся поневоле и с сокрушением.
– А в каком чине состоит среди этих корыстолюбцев, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – один благородный граф, который так ревностно был привержен к Ковенанту, что в тридцать девятом году первый бросился вплавь через реку Тайн во главе своего отряда и напал на королевское войско? Не он ли самый мечом и копьем навязывал Ковенант гражданам и коллегиям в Абердине?
– Понимаю ваш насмешливый намек, сэр Дункан, – сказал Монтроз сдержанно, – могу сказать только, что если искреннее раскаяние может искупить грех молодости, то есть излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то и мне простятся те преступления, в которых вы меня укоряете. Я по крайности все сделаю, чтобы заслужить прощение, и вот, с мечом в руках, заявляю готовность пролить лучшую кровь моего сердца во искупление моих заблуждений, а больше этого ни один смертный ничего сделать не может.
– Ну, милорд, – сказал сэр Дункан, – жаль мне передать такие речи маркизу Аргайлу. Он поручил мне еще сказать вам, что во избежание кровавых фамильных распрей, которые непременно возникнут вследствие войны между горцами, маркизу было бы приятно, если бы к северу от горных районов проведена была нейтральная линия: в Шотландии и так останется довольно места для драки, за что же задевать еще соседей и истреблять семейства и имущество друг у друга?
– Мирное предложение, – сказал Монтроз, улыбнувшись, – этого и следовало ожидать от человека, личное поведение которого всегда было миролюбивее его распоряжений… Впрочем, если бы возможно было выработать основания такой нейтральной линии и если бы мы могли быть уверены… а это условие, сэр Дункан, необходимо иметь в виду, – если бы мы, говорю, могли быть уверены, что и ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я, со своей стороны, не прочь обеспечить мир в тылу нашего войска, раз впереди у нас непременно будет война. Но, сэр Дункан, вы сами такой опытный и бывалый воин, что мы не можем ни допустить дальнейшего вашего пребывания в нашем лагере, ни сделать вас свидетелем наших распоряжений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы просим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами пошлем со своей стороны джентльмена, которого уполномочим обсудить условия проведения мирной линии в том случае, если маркиз действительно желает поддержать свое предложение.
В ответ на это сэр Дункан только поклонился.
– Милорд Ментейт, – продолжал Монтроз, – сделайте одолжение, побудьте с сэром Дунканом Кэмпбелом из Арденвора, пока мы станем решать вопрос, кто будет сопровождать его к его вождю. Мак-Олей, распорядитесь, пожалуйста, чтобы сэру Дункану оказано было всякое гостеприимство!
– Я сейчас распоряжусь, – сказал Аллен Мак-Олей, вставая и подходя к сэру Дункану. – Я люблю сэра Дункана Кэмпбела; в былые дни мы с ним вместе пострадали, и я этого не забываю.
– Милорд Ментейт, – сказал сэр Дункан Кэмпбел, – я искренне огорчен, видя, что вы в такие молодые годы ввязались в такое отчаянное и беззаконное предприятие!
– Я действительно молод, – отвечал Ментейт, – однако умею различать добро от зла, честность от беззакония; а чем раньше начинать хорошее дело, тем дольше и успешнее можно его делать.
– И вы тоже, друг мой, Аллен Мак-Олей, – сказал сэр Дункан, взяв его за руку, – неужели нам суждено считаться врагами, тогда как мы так часто соединялись против общего недруга? – Потом, обратясь ко всему собранию, он сказал: – Прощайте, джентльмены; так многим из вас я от души желаю добра, что ваш отказ от мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть Небеса, – прибавил он, взглянув вверх, – рассудят между нами и решат, кто из нас правее!
– Аминь, – сказал Монтроз. – Этому суду и мы все подчиняемся.
Сэр Дункан Кэмпбел вышел из зала в сопровождении Аллена Мак-Олея и лорда Ментейта.
– Вот образец чистокровного Кэмпбела, – сказал Монтроз по уходе посла, – все они такие же: с виду прав, а сам фальшивый!
– Извините, милорд, – сказал Ивен Ду, – мы с ним исконные, фамильные враги, а я все-таки скажу, что рыцарь Арденворский всегда храбр в битве, честен в мире и прямодушен на совете.
– Сам по себе, пожалуй, – сказал Монтроз, – с этим и я согласен; но он здесь служит представителем своего вождя, маркиза, а этот фальшивейшее в мире создание… И вот что, Мак-Олей, – продолжал он шепотом, обращаясь к хозяину дома, – боюсь я, как бы он не повлиял на неопытного Ментейта или на своеобразно настроенного вашего брата; поэтому пошлите-ка музыкантов в ту комнату, чтобы он не мог завести с ними никаких особенных разговоров.
– Да у меня ни единого музыканта нет, – отвечал Мак-Олей, – то есть один дудочник есть, на волынке играет… Да и тот совсем охрип теперь, потому что все хотел перещеголять троих товарищей по искусству… Но можно послать туда Анну Лейл с арфой. – И он пошел лично распорядиться этим.
Между тем возник горячий спор о том, кому дать опасное поручение сопровождать сэра Дункана в Инверэри. Нельзя было предложить это главным вождям, привыкшим держать себя на равной ноге даже с самим Мак-Калемором, а менее важным ужасно не хотелось туда отправляться. Они выказывали такое явное к этому отвращение, словно Инверэри было расположено в какой-то Долине Смерти. Сначала они помялись, но под конец откровенно высказали свою затаенную мысль; а именно что какое бы поручение ни принял на себя хайлендер, если оно будет неприятно Мак-Калемору, он никогда этого не забудет и найдет средство со временем отплатить за это весьма чувствительным образом.
Монтроз считал в душе, что предлагаемое перемирие есть не более как военная хитрость со стороны Аргайла, но не решился прямо высказать такого предположения в присутствии лиц, так существенно заинтересованных этим вопросом.
Видя, однако, что затруднение становится неразрешимым, он вздумал назначить на этот почетный и опасный пост капитана Дальгетти, у которого в горах не было ни клана, ни поместья, и, следовательно, не на что было обрушиться гневу Аргайла.
– А шея-то у меня есть, – заявил Дальгетти, – что, коли ему вздумается на ней сорвать свою досаду? Знаю я такие случаи, когда честного парламентера без церемонии вздергивали на виселицу под тем предлогом, что он шпион… Вот и римляне тоже не очень-то милостиво расправлялись с послами при осаде Капуи; хотя, впрочем, я читал, что они только отрезали им руки и носы да выкалывали глаза, а потом отпускали с миром.